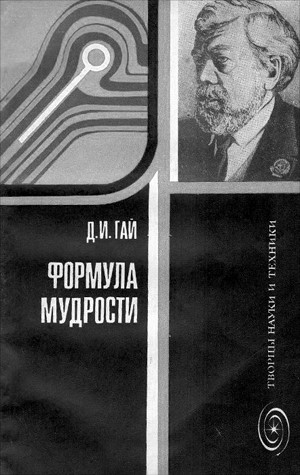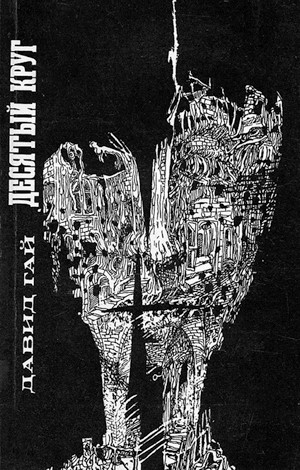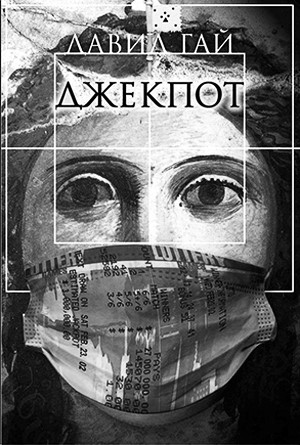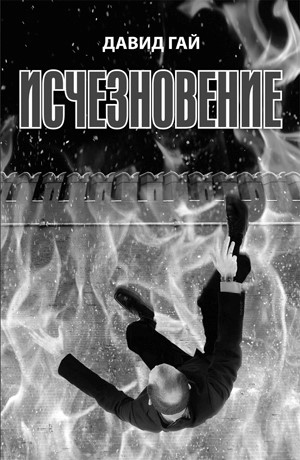Заметки на полях собственных книг
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Осип Мандельштам
…И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
Борис Пастернак
Выражаю особую признательность Семену Резнику и Виктору Норду за сделанные ими замечания и пожелания, учтенные мной в окончательной редакции рукописи.
Несколько предварительных слов
Как-то незаметно, минуя потрясения, крупные неприятности, хворобы, добрался я до собственного юбилея, о котором и мечтать не мог, полагая, что покину земную юдоль гораздо раньше. Говорю без всякой рисовки – как еще мог реагировать на случившееся со мной два десятилетия назад и потребовавшее экстренную операцию на открытом сердце? В России точно был бы каюк, а Америка меня спасла и подарила годы и годы жизни. Жизни!
Во время тогдашнего недельного пребывания на госпитальной койке не соткалось мнение, чем всё обернется, я гнал, как ветер злые тучи, мрачные предзнаменования, однако они полностью не развеивались, иногда отзвук их помимо моей воли полоскал ушные раковины и мнилось, что из переделки едва ли я выйду живой. Однако вышел и понял: допрежь приговора нельзя выводы делать, иначе беду накликаешь – мрачные мысли способны материализоваться.
В бруклинском “Маймонидесе” русский хирург Вайнблат вел внутри меня ирригационные работы: обходил забитые бляшками, заилившиеся сердечные артерии и ставил обводные канальцы для беспрепятственного тока крови. Но перед этим меня распяли, как цыпленка табака (перенесший такую же операцию Бродский использовал другой образ – будто вскрыли капот машины). Внутренности мои охладили, как полярника на льдине, до нужных градусов, жизненные процессы замерли и ни на что не реагировали, сердце выключили, грудь разрезали пилой, и я улетел в космос на семь часов. Полет прошел успешно, я был, как Гагарин, в виде подопытного кролика, только он все чувствовал, а я – ничего; вернувшись из немыслимых галактических далей, с трудом уловил позывной сигнал хирурга: “Если меня слышите, сожмите ваши пальцы, которые я держу…” Слышу, пытаюсь сжать, хоть чуть-чуть, ничего не получается, кисть ватная, не слушается. “Приоткройте глаза и моргните, если вы меня слышите и понимаете…” Слегка разлепляю свинцовые веки и моргаю, возвращаюсь из космоса на грешную землю, сквозь наркозный дурман прорывается: “Голова в порядке…”
Все это происходило, как я уже упомянул, двадцать дарованных мне лет назад. Бэйпасы мои худо-бедно работают. И вот замаячили цифры, в которые не верилось, восьмерка с нулем, нежданная круглая дата. И пусть смиренно “я утром седину висков заметил и складок безусловность возле рта…” Куда же от этого деться! И вновь повторяю: “Я не люблю зеркал – я сыт по горло зрелищем их порчи: какой-то мятый сукин сын из них мне рожи гнусно корчит…”
Но мимо об этом…
Гляжу на полку с книгами, на титуле мое имя, написал в разные годы, их более 30, первая вышла в 73-м, примерно половина – на родине, другая половина – в Америке. Как говаривал классик, далеко пойдет тот, кто умеет смеяться над своими произведениями. Я смеяться не научился, тем не менее строго и иногда с сожалением оцениваю каждое свое сочинение, на котором останавливается взгляд. Этот роман сегодня написал бы иначе, к этому претензии по части языка, а у этого, изданного в советское цензурное время, по понятной причине недостаточная свобода выражения мыслей… Но и тот, и другой, и третий навевают удивительные ассоциации: я общаюсь с книжками как с собственными детьми, вспоминаю их проделки, капризы, доставленные мне горькие и радостные минуты, для меня, их родителя, собранное в твердом или мягком перелете не исчерпывает содержание – за кадром, на полях остается многое, весьма поучительное. Как они являлись на свет божий, каким образом рождался замысел и как иногда по ходу работы менялся, какие барьеры приходилось преодолевать на пути к читателям… Мне вдруг настойчиво начинает казаться, что история написания книг и борьбы за них (да, борьбы!) не менее важна самой их сути…
Нахожу созвучие в этих своих отнюдь не категорических суждениях с Солженицыным, в “Бодался теленок с дубом” он пишет: “Есть такая, немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась)”.
Вот я и хочу, наверное, запоздало, оставить своеобразные заметки на полях собственных книг. Строго говоря, такие заметки делают читатели, ручкой или карандашом. Я же сам решил заняться этим. Прошу принять это должным образом, отнестись с пониманием – не как к капризу и прихоти, а лишь как к стремлению выговориться до конца, подвести итог.
Итак, начнем по порядку, строго по хронологии…
“Я ДО СУСЛОВА ДОЙДУ…”
В один из осенних вечеров 1971-го на моем редакционном столе зазвонил телефон. В это время коридоры “Вечерней Москвы” пустели – мы работали утром и днем, но никак не вечером, вопреки названию газеты. Уже в четыре часа дня свежий номер активно продавался в киосках. Нас читала без преувеличения вся столица.
Не помню, в связи с чем я припозднился на работе. Секунду-другую раздумывал, ответить ли. Наверняка звонит какой-нибудь “чайник” (так промеж себя мы называли назойливых и нудных читателей, морочивших голову по разным пустякам). И все-таки поднял трубку. Слышимость была ужасная, я еле-еле уловил, что звонит некий Захаров с вертолетного завода и приглашает на фирму обсудить важный вопрос. Какой, не сказал. Я записал продиктованный номер его телефона и пообещал связаться в ближайшие дни.
Прошло дня три или четыре. Я не перезвонил. Изредка вспоминая вечерний звонок, недоумевая, какой такой важный вопрос ко мне, репортеру, освещающему авиационные новости, имеет Захаров. О вертолетах я почти не писал, да и летал в командировках на винтокрылах крайне редко. Один полет мог плохо закончиться: мне поручили сделать репортаж о подготовке воздушного парада в “Домодедово” в честь 50-летия Октябрьской революции. Меня взял на борт “Ми-8” Герой Советского Союза Константин Рыхлов и мы должны были совершить тренировочный полет по трассе парада. Вылетели с Центрального аэродрома (бывшая Ходынка), все шло по плану, и вдруг я увидел в иллюминатор, как земля, а точнее, поле с пасущимися коровами, стремительно мчится на меня. Машина необычно раскачивалась и буквально упала с неба на коров и пастуха, в страхе успевших разбежаться. В отличие от них я не успел испугаться, настолько падение наше оказалось моментальным. Мы буквально плюхнулись. Из кабины вышел бледный Рыхлов, вытер тыльной стороной ладони струйку пота.
– Движок отказал… Садились на авторотации, – произнес он, употребив незнакомый мне термин.
Такая вот история.
Выбрав свободную минуту, я позвонил Захарову. Тот продиктовал адрес фирмы в Сокольниках и назначил встречу через день у проходной. Дата и время меня устраивали.
На фирму меня не пустили – разговор проходил в административном помещении. Я был представлен заместителю Главного конструктора Некрасову. Андрей Владимирович задал несколько вопросов относительно моей журналистской работы, сделав акцент на теме авиации. Похоже, он внимательно читал мои репортажи. А далее ошеломил предложением… написать книгу о знаменитом руководителе ОКБ Миле, скончавшемся год с небольшим назад. “Мы поможем собрать необходимые материалы…” Я, признаться, растерялся и промямлил нечто вроде: “Разрешите немного подумать…” Некрасов разрешил. На том и расстались.
Согласие я дал не без душевного трепета и опасения не справиться с порученным делом. Некрасов ободрил, дал список людей, с кем надо встретиться в первую очередь. Установившийся контакт с куратором будущей книги – приятным во всех отношениях, умным, проницательным человеком, крупным ученым, лауреатом Государственной премии, сулил надежду, что смогу разобраться в технических вопросах и в хитросплетеииях непростой жизни моего героя Михаила Леонтьевича Миля.
Опущу детали, скажу лишь о том, что заполнил анкету для 1-го отдела с целью получения постоянного пропуска на засекреченную фирму. Обещали сделать пропуск быстро после соответствующей проверки. А покамест я начал собирать материалы, беседуя по вечерам с сотрудниками ОКБ у них дома. Забегая вперед, скажу: через девять месяцев рукопись книги уже была готова, а пропуска я так и не получил. И слава богу, с учетом дальнейших моих перипетий отсутствие так называемой 2-й формы секретности оказалось как нельзя кстати.
В самом начале куратор предупредил: “Вам надо получить “добро” от жены Михаила Леонтьевича. Панна Гурьевна – человек непростой. Обязательно надо ей понравиться”. Такая “зависимость” меня не радовала, но делать нечего. Я отправился на рандеву с дамой, при имени которой многие милевцы начинали чувствовать себя неуютно. Кубанская казачка, Панна Гурьевна являла тип женщин властных, отчасти деспотичных, требующих безусловного подчинения, и одновременно капризных и взбалмошных. У нее на фирме были свои любимчики и те, кого она не жаловала. Такой, во всяком случае, она предстала в рассказах сотрудников фирмы. Михаил Леонтьевич был у нее под каблуком, уверяли меня.
Зная все это, я внутренне готовился к встрече с неизвестным итогом. Она состоялась в квартире Миля на Арбате, в Староконюшенном переулке. Панна Гурьевна чем-то напомнила Вассу Железнову, какой я ее представлял после прочтения Горького. Степенная, скупая в эмоциях, она ощупывала меня недоверчивым взглядом. Пожаловалась на здоровье – мучает мигрень, высокое давление. А взгляд оставался недоверчивым. Но постепенно оттаяла, расспросила, какую книгу я собираюсь писать, посоветовапла, с кем непременно надо встретиться, а с кем не обязательно и даже вредно, пообещала рассказать о Миле то, чего никто не знает – жена есть жена. Я, кажется, отделался малой кровью.
К чести Панны Гурьевны, она мне не мешала. Рукопись прочла одной из первых и одобрила, сделав незначительные замечания. Предупреждавшие меня насчет крутого характера вдовы Миля обескураженно качали головами: повезло. Зато дочери Миля сразу же приняли меня сердечно и открыто, особенно Татьяна. Я стал их частым гостем, о чем по прошествии полувека вспоминаю с теплом и душевной приязнью.
Существует особая внутренняя связь пишущего биографию знаменитого человека и героя произведения. Герой может быть живым или усопшим – не имеет значения, но его флюиды чутко и трепетно воспринимаются пишущим, отражаются в его душе. И если писателю особенно приятны черты характера героя, его душевные качества, отношение к окружающим, то это доставляет огромную радость и удовольствие.
Так случилось у меня с Милем. Я, никогда не видевший его, создал четкое представление о Михаиле Леонтьевиче благодаря рассказам его близких и коллег: мягкая, ненавязчивая манера общения, интеллигентность и глубокая порядочность, заботливость, чувство юмора, который он ценил и тонко воспринимал. Он был широко образован, знал и любил живопись и вообще, все красивое.
Михаил Леонтьевич обожал шутки, розыгрыши. Осенью 1964-го, когда сняли Хрущева, Миль блистательно разыгрывал – и не единожды – западных репортеров. Дело в том, что попавшего в немилость Никиту Сергеевича с женой поселили на Арбате, в Староконюшенном переулке, в том самом доме, где жил Миль. Притом в квартире этажом выше. Панна Гурьевна познакомилась и подружилась с Ниной Петровной Хрущевой. Уезжая на дачу, та оставляла ключи от квартиры жене Миля с просьбой “приглядеть”, ибо “слишком много развелось воров…”
За Хрущевым охотились западные журналисты в надежде получить интервью и сделать эксклюзивное фото. Приближалась зима, бывший глава государства изредка выходил на улицу в теплом пальто со смушковым светлым воротником и в такой же папахе и быстро садился в поджидавшую его машину. Репортеры приметили его одежду. По стечению обстоятельств Миль носил похожее пальто и шапку. Внешне он был похож на Хрущева. Возвращаясь с работы, когда было уже темно, он несколько раз просил водителя высадить его меитрах в ста от дома и, подняв воротник, неторопливо шествовал по Староконюшенному. Журналисты кидались к нему, вспыхивали блицы фотокамер, Михаила Леонтьевича просили ответить не короткие вопросы. Он молча продолжал идти по направлению к дому и уже у подъезда снимал шапку и картинно раскланивался. Разочарованные репортеры чертыхались…
В первом издании этого эпизода, понятно, не было – раскрывались бы “секреты” дислокации вертолетного КБ.
Немногим дано совершить в жизни то, что совершил Миль. Увлекающийся, экспансивный, он порой, казалось, не походил на Большого Конструктора, коим несомненно являлся. Вертолеты, созданные под его руководством, прославились на весь мир, став, в частности, самыми грузоподъемными, замечательно работавшими в народном хозяйстве, пополнившими боевую авиацию, побившими десятки мировых рекордов.
Достижения Миля покоились на “трех китах”: интуиция как продукт опыта и знаний, безграничная вера в вертолеты и беспредельная и легко дающаяся работоспособность… Как-то он сказал об одном своем сотруднике, что тот соображает “больше пузом, чем головой”. Это звучало, пожалуй, неодобрительно. В действительности же Миль весьма ценил этого сотрудника, и именно за то, что его решения часто были “от пуза”, а не принимались в соответствии с “высокой” наукой. Развивая собственную интуицию, он уважал интуицию и в других.
Михаил Леонтьевич говорил: если ему придется выбирать между очень интересной, экспериментальной конструкцией и конструкцией, представляющей небольшой шаг вперед, но зато легко воплощаемой в серию, он, не колеблясь, выберет вторую. Он всегда хотел строить как можно больше вертолетов для практического применения в народном хозяйстве и в Вооруженных Силах и не стремился к славе изобретателя, идеи которого не скоро практически осуществятся. В этом отношении он походил на Андрея Николаевича Туполева…
О многом я не мог написать, учитывая цензурные “рогатки”. Табуированные, запретные темы буквально преследовали. Приходилось, “наступая на горло собственной песне”, заниматься “самооскоплением”. Среди фактов, которые даже не мечтал включить в книгу, ибо их немедленно бы удалили, имелся и такой. Авиапромовское начальство промеж себя называло фирму Миля “жидовской”, намекая на избыток евреев. Министр Дементьев недолюбливал Миля и не скрывал этого. Однажды на знаменитом авиасалоне в Ле Бурже он прилюдно устроил Генеральному конструктору выволочку за согласие участвовать во встрече руководителей всех вертолетных фирм.
Относительно евреев. Сам Михаил Леонтьевич, внук кантониста, в анкетах значился “русским”. Его родная сестра Екатерина Леонтьевна, беседуя со мной, критиковала брата: “Я же еврейка, а Миша вдруг русским заделался…” Ну, что было, то было, времена не выбирают, скажут некоторые. Тем не менее, на фирме и вправду специалистов-евреев хватало. В конце 40-х – начале 50-х, когда в СССР усилились гонения на евреев, их массово увольняли. Авиапромышленность не стала исключением. Куда податься уволенным конструкторам, инженерам, в большинстве сравнительно молодым? Многие направили стопы в недавно организованное КБ Миля. Евреев туда брали – “какие-то непонятные винтокрылы”… Дело непрестижное… С годами принятые в фирму сотрудники выросли в крупных специалистов в своих направлениях.
Издательство “Московский рабочий” заключило со мной договор на выпуск документальной повести, посвященной создателю вертолетов МИ. Издание такого рода требовало в то время наличия четырех разрешений – “виз”. Виза фирмы, в данном случае, OКБ Миля, виза министерства авиапромышленности, виза военных и, наконец, самое главное – разрешение Главлита, то есть цензуры. Так как книгу выпускало издательство “Московский рабочий”, по статусу городское, то “добро” требовалось от Горлита – хрен редьки не слаще. Три визы без особого труда я получил в течение четырех с половиной месяцев, а вот Горлит… Его начальник Фенин позвонил в издательство и запретил сдавать верстку в производство. “Эта книга в свет не выйдет”, – категорично заявил он.
Это был удар ниже пояса. Первый мой литературный опус мог так и остаться рукописью. Судьба ее висела на волоске.
Промозглым осенним утром мы встретились у входа в светло-кирпичный жилой дом недалеко от Садового кольца, на первом этаже размещалась нужная нам организация. Мы – это зав. редакцией “Московского рабочего” Мирон Викторович Тесленко, редактор Ирина Мстиславовна Геника и я. Нас приняли начальник Горлита и его заместительница Валентина Ивановна.
Тесленко задал сакраментальный вопрос: “Почему вы противитесь выходу книги Гая?” Фенин постучал карандашом по стеклу казенного стола и жестко отрубил: “Потому что она раскрывает государственные секреты”. – “Какие же?” – Тесленко вздернул брови. – “Автор раскрыл дислокацию секретного КБ. Он описывает сцену, когда больной Миль попросил водителя отвезти его в ближнее Подмосковье полюбоваться на природу. Ехали они по Можайскому шоссе. Следовательно, КБ находится в Москве. А это – секретные данные”.
При этих словах Фенин окинул нас троих взглядом, каким, наверное, следователи смотрели на “врагов народа” в 37-м.
Так весь мир знает, что вертолетное КБ базируется в Москве! Милевцы участвуют в зарубежных авиасалонах, их посещают западные делегации”, – не выдержал я.
“В нашем перечне нет такого КБ, – отрезал Фенин, а Валентина Ивановна, заподозрив недоброе, осведомилась: “Вы – сотрудник издательства?” – “Нет, это автор книги”, – пояснила Геника.
Боже, что тут началось! Фенин в ужасе посмотрел на замшу, та всплеснула руками и выскочила из кабинета, как ошпаренная. Через несколько секунд дверь приокрылась и из коридора выглянула испуганно-заинтересованная женская физиономия, потом мужская, в кабинет заглядывали и тут же исчезали какие-то люди, а в коридоре слышалось повторяемое на разные голоса и с разными оттенками: “Автор! Автор!”
Живого человека, что-то написавшего и пришедшего отстаивать свои права, здесь, похоже, видели впервые.
Валентина Ивановна вбежала в кабинет в красных пятнах и едва не кинулась на меня: “Посторонним вход в Горлит запрещен! И как вы, товарищ Тесленко, могли такое допустить?” – уже в его адрес.
Тесленко, светлая ему память, был не робкого десятка. Осадив съехавшую с глузду бабу, он неожиданно по-свойски он обратился к Фенину: “Ты рубишь без всяких серьезных оснований хорошую книгу…” Фенин, набычившись, молчал.
И тут меня прорвало. Величайшая несправедливость, творившаяся на моих глазах, придала силы и необходимую в таких случаях авантюрную смелость. Я сказал, в упор глядя на Фенина: “Предупреждаю, если вы это сделаете, я пойду жаловаться в ЦК. Я до Суслова дойду. Я хорошо знаю его помощника…”, – и назвал внезапно всплывшее имя реального человека. Это было вранье – я лишь однажды звонил ему по какому-то редакционному делу и более никак не был с ним связан.
Фенин оторопел. Тесленко, желая разрядить обстановку, обратился ко мне: “Выйди на пару минут, мы тут без тебя покалякаем…”
“Пара минут” затянулась.
Наконец, меня пригласили в кабинет.
“Сейчас вы сядете с моей заместительницей в отдельной комнате , она покажет все места, которые надо убрать или изменить, а дальше мы будем решать”, – хмуро произнес Фенин и, покосившись на меня, добавил: “Положительно”.
Вот так в муках из чрева цензурного ведомства выползала на свет моя первая книга…
“…ПОРАЖЕНЬЯ ОТ ПОБЕДЫ ТЫ САМ НЕ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬ”
Шло время. Газетная круговерть захватывала меня все сильнее. Изредка я повторял фразу Миля: “Большинство работает, чтобы жить, а я живу, чтобы работать”. В какой-то степени это касалось и меня, молодого репортера, строившего смелые планы на будущее. В планах этих авиации уделялось главенствующее место. Я не замахивался на прозу, даже не думал о возможных сюжетах рассказов или повестей – меня привлекали люди, творившие историю на земле и в небе, реальные, а не придуманные писательской фантазией ситуации.
Можно ли совмещать два столь разных занятия – журналистику и литературу? Оказывается, можно, и достаточно успешно. Я этого тогда не знал и не понимал. Да, все известные и знаменитые писатели рано или поздно бросали газеты и полностью отдавали себя литературе. Проза – особа своенравная, ревнивая, не терпит полигамии. Перед глазами классические примеры Булгакова, Ильфа и Петрова, Бабеля, Катаева; если же брать западных писателей, то работали в газетах Марк Твен, Хемингуэй, Оруэлл… – список можно продолжить. Но какое имел отношение к этому я тогдашний – борзый репортер, получавший невероятную радость от работы, от знакомства с теми, чьи имена вызывали трепет и преклонение! Будущий путь в литературу был сопряжен с обретениями и потерями, газетное ремесло многое давало – и многое отнимало; к счастью, я вовремя это понял, но “брака” не расторгнул.
“Вертолеты зовутся МИ” удостоились премии на всесоюзном конкурсе общества “Знание”. Книга была переиздана. Ее перевели на несколько языков. Издательство мирволило мне, интересовалось творческими планами. В туманной дымке маячила идея новых документальных биографий выдающихся конструкторов самолетов. Кого конкретно, покамест не знал, однако поиск неизбежно приводил к тем, чьи имена обросли легендами и о ком еще никто всерьез не писал. Я мечтал стать первооткрывателем.
Так случилось, что еще за несколько лет до выхода книги о Миле меня поджидала удача – знакомство с патриархом советского авиастроения Туполевым. Произошло оно при весьма примечательных обстоятельствах. О них чуть позже, а пока вспомню осень 68-го и готовящийся юбилей Андрея Николаевича, отмечавшего 80-летие.
Незадолго до памятного дня я позвонил другому Генеральному авиаконструктору – Артему Ивановичу Микояну и попросил написать для газеты статью, посвященную Туполеву. Микоян живо откликнулся и пригласил к себе на фирму неподалеку от станции метро “Сокол?. Я должен был записать его рассказ.
Стояла теплынь, золотая осень, Артем Иванович был в рубашке с короткими рукавами, немного бледный – всколь упомянул, что недавно перенес воспаление легких. С охотой уделил разговору полтора часа, а в самом конце неожиданно сказал: “А сейчас покажу подарки, которые хотим преподнести юбиляру”. Показан был только один подарок: изумительная чеканка с изображением Давида Сасунского на коне. Точная копия памятника напротив ереванского вокзала.
– Ну как? – поинтересовался Микоян.
– Красиво.
– Будут и еще подарки и даже один сюрприз, – он улыбнулся и заговорщически посмотрел на меня. – Только не скажу, какой. Вы, журналисты, народ в этом отношении ненадежный, разболтаете раньше времени…
Через неделю я вновь сидел в этом же кабинете и показывал Микояну текст статьи за его подписью. Против ожидания, Артем Ивановач ничего не исправил, только поставил “галочку” над одним предложением.
– Понимаешь, Гай, ты пишешь, рисуя образ Туполева: “…и его заразительный смех”. Смех у него, по правде говоря, не заразительный, а поразительный, поразительно неприятный, визгливый такой…, – и мой собеседник изобразил нечто вроде гримасы. – Вызвали нас недавно на Политбюро, один важный вопрос по нашей отрасли решить, и Леонид Ильич, извини, глупость спорол. Туполев засмеялся, как обычно, – тоненько и ехидно. Брежнев спрашивает: “Вы, собственно, над кем смеетесь?” Туполев тут же смех оборвал и сидит с непроницаемым лицом. Поэтому давай лучше напишем: “…и его неподражаемый смех”. Так будет правильнее.
Наступил день чествования Андрея Николаевича в ОКБ. Оно предшествовало официальному, на правительственном уровне. Туполев недомогал, сидел, нахохлившись, на сцене зала в некотором отдалении от президиума, держа свою любимую палку. Микоян выступил одним из первых, преподнес подарки и вынул из кармана пиджака письмо.
– Дорогой Андрей Николаевич! – торжественно начал он. – Накануне вашего юбилея я получил письмо от армян – жителей Нахичеванского района города Ростова-на-Дону. Они попросили меня сердечно поздравить вас от их имени и заодно спросить: не из тех ли вы армян Тополянов, которые испокон века жили в Нахичеванском районе?
Зал засмеялся, отдав должное придумке Артема Ивановича. Туполев же насупился и вдруг, озлившись, стал бить палкой по полу:
– Какой я тебе армянин? Я русский, дворянин, из-под Твери! Какой еще Тополян?..
Зал захохотал еще сильнее. Микоян спешно ретировался.
Дальше шло по-залаженному: речи, приветствия, все серьезно, до того момента, как на трибуну взошла Нина Попова, председатель Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Появление ее было связано с тем, что Туполев долгие годы возглавлял общество дружбы с Болгарией. Попова, дама весьма габаритная, понесла околесицу типа того, что, как утверждают геронтологи, человек должен жить сто, сто десять, сто двадцать лет, так что вы, дорогой Андрей Николаевич, можно сказать, только вступили в пору своей юности.
Народ в зале оживился. Сидевший в президиуме академик Стечкин, племянник знаменитого ученого Жуковского, тоже в почтенном возрасте, недослышал и, ему казалось, шепотом спросил сидевшего рядом министра Дементьева:
– Петя, что она сказала?
Как все глуховатые люди, академик произнес это так, что услышала, наверное, половина зала.
Министр отмахнулся:
– Потом, Борис Сергеевич, потом…
– Нет, Петя, что она сказала? – не унимался академик.
– Она сказала, что Туполев еще юноша, – министр вынужден был произнести весьма громко, дабы сосед понял, о чем речь.
Образовалась пауза. В мертвой тишине Стечкин глубокомысленно изрек:
– Нет, Петя, этот юноша эту девушку, – и показал на Попову, – уже не смог бы…
Зал буквально задохнулся от хохота…
Ну, а теперь – об обстоятельствах личного знакомства с Туполевым.
Готовился коммунистический субботник, приуроченный к 50-летию сего эпохального события. Москва стояла на ушах. “Вечерка” призывала, агитировала, нагнетала атмосферу праздника. В душе все мы прекрасно понимали глупость и никчемность этой акции, открыто рассказывали анекдоты на тему резинового бревна, которое нес Ильич, однако партийное начальство требовало осветить это событие как можно ярче, и нам ничего не оставалось, как подчиниться. Кому-то пришла в голову замечательная, а главное, свежая идея опубликовать приветствия участникам юбилейного субботника от самых именитых людей страны. Я активно писал об авиации, мне и досталось взять интервью у Туполева.
Я попросил разрешения позвонить ему “по вертушке”. “Вертушкой” или “кремлевкой”, многие помнят, назывался аппарат с гербом СССР, с помощью которого можно было напрямую соединиться с теми, кто был недоступен, если звонить по обычному телефону приемной и натыкаться на церберов-секретарей или помощников. В нашей газете такой аппарат стоял в кабинете главного редактора.
Получив разрешение, я набрал 3000 (справочную) и получил номер Туполева. Переведя дух, с волнением набрал заветные четыре цифры. Через мгновение услышал тоненький, слегка вибрирующий, совсем не начальственный голос: “Туполев слушает”. Представившись, я сбивчиво начал излагать суть просьбы, но был остановлен: “Слушай, парень, иди ты на… Не мешай работать”, – и в трубке послышались гудки. “Что он сказал?” – спросил главный. – “Попросил позвонить попозже”, – я не хотел признать свое фиаско.
Больше всего меня поразило, что Андрей Николаевич послал меня по популярному адресу, не стесняясь “вертушки”. Потом уже, спустя определенное время, я узнал: ненормативная лексика постоянно использовалась Туполевым, причем не ради любви к соленым словцам и выражениям, а исключительно с целью большей доходчивости.
Набравшись мужества, я через час снова набрал нужный номер. На сей раз не вякал и не мямлил, а сразу взял быка за рога, использовав привычную уху каждого жившего в то достославное время демагогию. “Андрей Николаевич, вашего слова ждет рабочий класс Москвы. Вы можете отказать мне, но не рабочим людям…” Туполев, видать, слегка опешил, услышав такую лабуду, поэтому в трубке воцарилось молчание. “Ладно, приходи, черт с тобой. Как твоя фамилия? Я предупрежу на вахте. Иди через первый подъезд. Скажешь – к Туполеву. Где наше КБ находится, знаешь?”
…Войдя с понятной робостью в кабинет, я остановился у порога, по привычке ища глазами ковровую дорожку и массивный двухтумбовый стол, за которым восседал бы знаменитый конструктор. Смотрел, естественно, вперед и ничего не видел. Кабинет оказался относительно небольшой и в нем никого не было. В недоумении переминаясь с ноги на ногу, я вдруг услышал писклявый голос:
– Эй, парень, чего крутишься? Здесь я, здесь…
Человек в очках сидел за столом в углу, слева от входа. Одет был не то в поддевку, не то в жилет.
– Ну, чего тебе надо? – спросил Туполев, не вставая, слегка капризно, когда я приблизился.
Я еще раз объяснил и достал из папки листок с машинописными строчками. По тогдашней традиции журналисты, как правило, приходили на подобные “протокольные” интервью с текстовыми заготовками – чего, действительно, морочить голову занятым начальникам. Те прочитывали текст, правили одно-два слова или ничего не правили, ставили свои подписи – и очередное обращение, приветствие, отклик на очередное “историческое решение партии” шли в газеты. И мы, и начальники относились к этой процедуре с понятной долей безразличия и даже цинизма: надо значит надо. (Естественно, это не касалось серьезных бесед по тем или иным проблемам).
Туполев взял листок с тридцатью строчками, составленными от его имени, кивком пригласил сесть и углубился в чтение. Потом изрек:
– Это не годится, – и начал редактировать.
Я понял, что сиюминутного результата ждать не придется и что я попал на человека, все принимающего всерьез.
Туполев правил, вернее, переписывал текст около часа. Он громко произносил фразы – видимо, на слух воспринимал их лучше, несколько раз обсуждал со мной, я поддакивал, не решаясь спорить, и все больше понимал – составленный им текст мой редактор ни за что не пропустит. В тексте имелись корявости стиля, очевидные смысловые нестыковки, но главное, явно “не те” казенные, набившие осковину заштампованные слова и обороты, которыми тогда публично изъяснялась вся страна. Это был его, Туполева, текст, в которым он признавался в любви к рабочему классу, и я не посмел бы убрать даже запятую. Но я не был главным редактором газеты горкома партии…
Закончив, Андрей Николаевич по моей просьбе расписался и протянул листок, испещренный авторучкой.
– Иди, парень, утомил ты меня…
Сунув сложенный вчетверо листок в карман, я попрощался и ринулся из кабинета. Уже нажимал кнопку лифта, как увидел бегущую ко мне секретаршу.
– Андрей Николаевич просит вас вернуться!
Час от часу не легче… Что случилось? Передумал подписывать свое обращение?
Вой дя в кабинет в сопровождении секретарши, я услышал:
– Парень, а ты растяпа, папку-то забыл. Я думал, что-то интересное, а там одни бумажки…
Я рассказал редактору, как прошла встреча с Туполевым, показал исчерканный листок. Редактор поморщился, провел ладонью по голому черепу и изрек, картавя чуть больше обычного, что выдавало крайнее неудовольствие:
– Испгавьте, где можно, но сильно не тгогайте.
С Туполевым он связываться побоялся.
***
Авиации как основной журналистской специализации я оставался верен и дальше. Много летал, завязывал знакомства с новыми и новыми сотрудниками авиационных КБ, писал о достижениях летчиков-испытателей фирмы Микояна-Гуревича, бивших один за другим мировые рекорды на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-25, пару раз забирался в стратосферу на первом в мире сверхзвуковом пассажирском лайнере Ту-144 – словом, “был в материале”. Престижно было и всячески поощрялось, когда удавалось опередить ведущие центральные издания в освещении авиационных новостей и сенсаций.
Меж тем, на фоне сиюминутных событий и обстоятельств, пусть и важных, меня все больше интересовала история. С разницей в пару лет я подписал договоры с “Московским рабочим” на выпуск документальных книг, посвященных двум Владимирам Михайловичам – Петлякову и Мясищеву. Первых книг об этих выдающихся людях. Их судьбы причудливо пересекались с судьбой Туполева, они были, по моей условной классификации, как бы “сыном и внуком” патриарха отечественного самолетостроения.
Петляков участвовал в проектировании всех цельнометаллических самолетов, носивших аббревиатуру АНТ (Андрей Николаевич Туполев). Созданный Петляковым тяжелый бомбардировщик ТБ-7 бомбил Берлин вскоре после начала войны с гитлеровской Германией. Ну, а петляковский пикирующий бомбардировщик “Пе-2” стал одним из основных советских фронтовых самолетов. И если бы не трагическая гибель Владимира Михайловича в авиакатастрофе в январе 1942-го, он наверняка стал бы руководителем крупного и успешного конструкторского бюро…
Мясищев на заре своей конструкторской деятельности попал в бригаду крыла, возглавляемую полным тезкой Петляковым. Карьерный рост был вполне успешным – уже в середине 30-х Мясищев создавал самолет АНТ-41 – говоря по-современному, как Главный конструктор при Генеральном констукторе Туполеве. Затем – командировка в США, посещение известных авиационных фирм, приобретение самолетов для лицензионной постройки. Так в СССР начали строить американский ДС-3 (будущий Ли-2). После гибели Петлякова он становится его преемником во главе КБ. Но главное новаторское достижение Мясищева – создание сверхзвукового стратегического ракетоносца М-50 c дистанционной системой управления (экипаж – всего два пилота).
Помимо всего прочего, объединяло этих людей важнейшее обстоятельство – они были узниками ГУЛАГа и делали самолеты в т.н. “шараге”.
Собирая материалы для двух книг (первым готовился выход “Петлякова”), изучая документы, слушая рассказы коллег моих героев, я испытывал мучительное раздвоение. Опять на моем пути вырастал всесильный монстр в виде Главлита (Горлита), то бишь цензура. Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй… Писать правду – поставить крест на выходе книг – их завернули бы в издательстве еще на стадии редактирования. Писать уклончиво, намеками – цензура поймает непременно, у фениных и прочих есть подлое понятие “непрямой подтекст”, звериный нюх на аллюзии. Что же делать? Скрепя сердце, я решил писать обе книги без упоминания “шараги”, это гарантировало их выход в свет – одновременно фиксируя в специально заведенную тетрадь добытые факты работы конструкторов-заключенных над новыми самолетами. Пусть полежат в домашнем архиве – может, изменятся времена и удастся обо всем этом написать открыто, не таясь. Сам я в такую возможность, признаться, не верил.
Сама судьба послала мне знакомство, переросшее в доверительные отношения, с человеком, который сам прошел авиационную “шарагу”, сидел и трудился вместе с Туполевым, Петляковым, Мясищевым и сотнями других конструкторов и инженеров и мог многое поведать. Ах, какие потрясающие вечера проводил я у Леонида Львовича Кербера, потомственного дворянина, представителя немецко-балтийского аристократического рода, долгие годы зама Туполева, сколько необыкновенно интересного узнавал! Хозяин в ермолке и с неизменной папиросой, прихрамывая, сам открывал дверь, вел в малюсенький, наскозь прокуренный кабинет, весь в книжных полках, усаживал и начинал беседу сочным, дивным русским языком, с байками, историями – смешными, грустными, поучительными. Сам пишущий, он знал цену детали, образу, точному словцу. Слушать его было наслаждение.
– В самиздате, говорят, ходит книжка про те времена – “Туполевская шарага”. Вот бы почитать…, – однажды вырвалось у меня.
Кербер заговорщически улыбнулся.
– В следующий раз, молодой человек, вы получите эту книгу. Только с условием – не заиграйте. И вообще, осторожнее…
Шел конец семидесятых. Чтение самиздата отнюдь не поощрялось, на нем можно было крупно погореть.
Леонид Львович сдержал слово, книгу я получил. Появление ее в немецком издательстве “Посев” датировалось 1971 годом, на обложке стояла фамилия Шарагин – явно псевдоним. Ощущения, полученные от чтения, трудно передать словами. Это было потрясение.
Но лишь спустя десять лет Кербер открылся: автор книги – он. Тому имелись неопровержимые доказательства. Уже шла перестройка…
Из рассказов Леонида Львовича я узнал, что воспоминания первоначально были задуманы им как история жизни, написанная от руки для детей и ещё малолетних внуков, и предназначалась для хранения в семейном архиве. Это была история про его жизнь и работу в заключении. Выйдя из тюрьмы, он рассказывал об этой жизни только своим домашним и ближайшим друзьям. Однако в период недолгой “оттепели”, последовавшей в связи с развенчанием культа личности Сталина, Кербер решил напечатать свои воспоминания на машинке – естественно, без подписи, – чтобы иметь возможность дать их почитать кое-кому из друзей. Будучи человеком не просто умным, но ушлым (жизнь заставила) он понимал: по шрифту машинки “органы” могут докопаться, чья она. Поэтому он отдал ее перепечатать знакомой его жены, которая знала машинисток, занимавшихся для заработка перепечатываем нелегальных (самиздатовских) рукописей. Условием было изготовить только четыре копии. Как водится, какой-то экземпляр “ушел” и неведомыми Керберу путями оказался за границей.
О книге, ее подлинном авторе и всем том, что легло в ее основу, я в конце 80-х написал в “Московских новостях”. Это была первая публикация в официальной советской прессе на тему, как сидели творцы первоклассных самолетов. А вскоре Кербер сам начал публикацию глав потаенного издания в журнале “Изобретатель и рационализатор”.
Все это имело самое прямое отношение к моим героям и их коллегам-авиационным специалистам. Согнанных из всех лагерей, их в 1938-м привезли в Болшево, в бывшую трудкоммуну ОГПУ, затем перебазировали в Москву в здание КОСОС ЦАГИ на улице Радио. Примерно две сотни авиационных специалистов были разделены на подразделения. Петляков возглавил КБ “100”, по индексу проектируемого самолета, Мясищев – КБ “102” и Туполев – КБ “103”. Петляковцы приступили к работе первыми, поскольку Владимир Михайлович был арестован первым из троих, почти сразу по возвращению из США, где в составе делегации авиапрома знакомился с американским самолетостроением.
 Он запомнился нескольким болшевским зэкам неразговорчивым, подавленным, молча сидел на нарах в дырявых шерстяных носках и лицо его выражало одну тяжкую думу, ответа на которую он не находил. Но едва началось проектирование “сотки” – высотного скоростного двухместного истребителя-перехватчика, как от апатии и подавленности не осталось и следа (потом по требованию начальства машину пришлось переделывать в пикирующий бомбардировщик, будущий знаменитый “Пе-2”, выпущенный в количестве 11 с половиной тысяч).
Он запомнился нескольким болшевским зэкам неразговорчивым, подавленным, молча сидел на нарах в дырявых шерстяных носках и лицо его выражало одну тяжкую думу, ответа на которую он не находил. Но едва началось проектирование “сотки” – высотного скоростного двухместного истребителя-перехватчика, как от апатии и подавленности не осталось и следа (потом по требованию начальства машину пришлось переделывать в пикирующий бомбардировщик, будущий знаменитый “Пе-2”, выпущенный в количестве 11 с половиной тысяч).
Мясищев в “шараге” не изменил своих привычек: по-прежнему опрятный (в той степени, в какой было возможно, нося арестатскую робу-комбинезон), чисто выбритый. Не изменил и походку, не согнулся, не сгорбился – все такая же подчеркнуто прямая спина, гордая посадка головы. Туполев, дававший меткие прозвища, прозвал его “Боярином” и называл не иначе как “Вольдемар”.
Мясищев с коллегами проектировал дальний высотный бомбардировщик. Туполевцы занимались фронтовым бомбардировщиком, будущим “Ту-2”.
Из рассказов Кербера мне особенно запомнился такой. Передаю дословно.
“Человека этого доставили в “шарагу” позже других – в сентябре 1940-го. Везли его долго, месяц, с Колымы, где он “доходил на общих”. На каторжных работах он бы долго не протянул. И вдруг – невероятное, он попадает в Москву, в хорошо знакомое помещение на Яузе, правда, с решетками на окнах с внутренней стороны, оказывается среди таких же, как он, конструкторов и инженеров, которые что-то чертят, строят… В первый день по прибытии новички не работали – им давали время осмотреться, узнать правила пребывания в “шараге”. Человека этого привели в спальню, показали его кровать с тумбочкой, не нары, а железную кровать с пружинным матрацем, а главное, с простыней, одеялом, наволочкой, подушкой. Потом повели в столовую. Он обомлел, не поверил глазам. Белые скатерти, салфетки, тарелки, столовые приборы… Он достал из кармана комбинезона самодельную ложку, отлитую их алюминиевой проволоки, схватил кусок нарезанного и свободно лежащего в глубокой тарелке хлеба и начал жевать. Подавальщица в белой наколке подошла к нему и спросила: “Вам на третье чай, компот или какао?” Это его окончательно сразило. Уткнув лицо в кулаки, человек заплакал…”
– Знаете, о ком речь? – спросил Кербер.
Я пожал плечами.
– О Королеве. Сергее Павловиче. Салфетки, тарелки, простыни, нормальная еда, впрочем, не повлияли на его пессимизм, прямоту суждений. Его коронная фраза о нашем будущем: “Шлепнут нас всех, братцы, без некрологов…”
Итак, я уже многое знал о жизни и работе в “туполевской шараге”. Перестройка набирала ход, цензурные путы резко ослабли, а потом и вовсе исчезли. Я смело мог включить новые главы в свое повествование, но, увы, “Профиль крыла” и “Небесное притяжение” уже вышли из печати. Издательство не планировало их переиздание. Документальные биографии Петлякова и Мясищева имели большие тиражи, книги раскупали, рецензировали. Ну и что? Было чувство, что я родил недоношенного ребенка, который никогда не разовьется и не станет нормальным. Неужели мои книжки так и останутся , по сути, недописанными, с большими пробелами?
ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ
Летом 1993-го я в возрасте 52 лет эмигрировал в США. Моя семья, жена и сын, уже находились в Америке более двух лет. Волей случая они оказались в земном раю – калифорнийском Сан-Диего, на берегу Тихого океана. Я присоединился к ним.
Решение покинуть родину далось мне мучительно. Я не представлял, чем русскоязычный журналист, литератор сможет заниматься в эмиграции. Причины, вызвавшие излом судьбы (не только воссоединение с семьей), подробно описаны в моих романах “Сослагательное наклонение” и “Средь круговращенья земного…”, поэтому не стану на этом останавливаться. Скажу лишь, что мне повезло, как везет, наверное, многим иммигрантам, не уповающим на велфэр, борющимся с неблагоприятными обстоятельствами, ищущим свое место в новой для них действительности. Такая активность, как правило, вознаграждается. В Сан-Диего я споспешествовал созданию русского информационно-рекламного журнала, существующего по сей день. Я писал во все русские издания Америки, плодившиеся со страшной скоростью. Это было время расцвета эмиграции из бывшего Советского Союза.
Через три года меня пригласили в Нью-Йорк на должность редактора известного еженедельника “Еврейский мир”. Моя журналистская карьера продолжилась.
Что же касается писательских дел, то, несмотря на бешеную занятость, я заканчивал роман, действие которого происходило в Нью-Йорке и в России и было связано с приключениями героя, выигравшего главный приз в лотерею и ставшего миллионером. Жгуче-современный роман ждали в Москве, солидное издательство заключило со мной договор, но внезапно я попросил дать отсрочку в несколько месяцев. Иное властно вмешалось в мои планы…
Это “иное” пришло ко мне во сне, вернее, в минуту раннего рассветного пробуждения. Я давно пришел к убеждению, что случайности – не случайны. Почему идея начисто переписать уже изданное, добавив то, что по определенным причинам не попало в текст, – пришла именно в эту минуту, я не знал, не ведал. Но чем больше думал над этим, тем отчетливее понимал – это должно было случиться, рано или поздно. И вот – случилось.
Шла зима 2005-го. Была пятница. В выходные я методично перелистывал страницы книг о Миле, Петлякове и Мясищеве и отчетливо видел лакуны, пустоты – многое неосуществленное не по своей и по своей вине. Теперь оставалось восполнить пробелы. Я словно искупал долг перед этим людьми, поведав о них далеко не всю правду. Жизнь постоянно испытывала их на излом, и они выдержали проверку, не согнулись, не сдались обстоятельствам. Я решил объединить все три повести, добавить очерк о Туполеве и выпустить под одной обложкой. Дистанция времени даст возможность многое переосмыслить, увидеть и понять лучше, чем прежде…
И я засел за кардинальную переделку уже однажды написанного и напечатанного.
Память хранила массу эпизодов, не нашедших выхода в советских изданиях, востребованной оказалась заветная тетрадка с записями бесед с Кербером и другими людьми, прошедщими “шарагу”, помог и интернет, где я уточнял и выверял факты, даты. Так, в повествовании о Миле появилась новая глава о боевом применении вертолетов МИ. Подробно была описана новейшая история фирмы – тяжелые испытания, выпавшие на долю преемников Михаила Леонтьевича.
Мое внутреннее состояние можно было сравнить с ощущениями аскета, избавившегося от вериг. Никто и ничто надо мной не властвовали, самоцензурные ограничения остались в прошлом, о цензуре вообще разговор не шел. Это было прекрасное время абсолютного творческого раскрепощения. Писать правду, как я ее понимал и чувствовал, оказалось так легко!
Я включал в текст новые и новые фрагменты, касавшиеся моих героев. Будучи арестован и попав на Лубянку, Петляков не хотел подписывать донос на самого себя, его били, он лишился нескольких зубов. Затем, когда понадобился в “шараге”, ему сделали вставную челюсть…
(Уместно тут было вспомнить историю преждевременной смерти Королева. Операция в “Кремлевке” сразу же началась с накладки: анестезиологи пытались дать оперируемому наркоз, но тот не мог широко открыть рот. Пришлось делать разрез на горле и вводить трубку в трахею. “У меня нет никаких сомнений, – вспоминал потом академик Борис Петровский, – что во время допросов Королеву сломали челюсти. Это обстоятельство и заставило нас применить трахеотомию”. Сам генеральный конструктор о пытках на Лубянке никогда никому не говорил. Об этом не знала даже супруга Королева, Нина Ивановна. Она лишь припоминала, что Сергей Павлович действительно не мог широко открывать рот и всегда очень нервничал перед визитом к зубному врачу).
Я описывал будни “шараги”, детали проектирования самолетов, невероятные истории, связанные с этим, работу моих героев после освобождения (первым вышел на свободу Петляков). В повествовании о Мясищеве делался акцент на новаторские, революционные конструкторские решения. “Он был старше своего времени, а время , как и толпа, не прощает тех, кто идет не в строю. Отставших громко презирают и тихо ненавидят идущих впереди”. Это цитата из воспоминаний Л.Л. Селякова, ближайшего соратника Мясищева.
И не случайно в начале осени 1960-го его ОКБ прекратило самостоятельное существование по решению Хрущева, а сам Владимир Михайлович получил назначение на должность начальника ЦАГИ, то есть непосредственно конструкторской деятельностью уже не занимался. Несчастливой оказалась судьба М-50. Время оказалось противником мясищевцев – в разгаре была компания против авиации в пользу ракет. Вероятно, лучший в стране творческий коллектив соратников Мясищева поглотила организация любимца Хрущева – Челомея, которого не без оснований считали интриганом и авантюристом, что потом и подтвердилось….
Любопытная запись обнаружилась в моей заветной тетрадке. Она касалась разговора с шеф-пилотом мясищевской фирмы Федором Федоровичем Опадчим.
– На встрече с Хрущевым, когда нас закрывали, он заговорил о больших успехах в создании межконтинентальных ракет, намекая на ненужность стратегические бомбардировщики. Я позволил себе “заступиться” за наши самолеты. Никита Сергеевич недовольно посмотрел на меня и буркнул: “Яйца курицу не учат…” Прошло несколько лет, Хрущева сняли. Он изредка приезжал на дачу к дочери Раде и ее мужу Аджубею. Я жил в том же дачном поселке. Как-то иду по улице и вижу пенсионера Хрущева в соломенном брыле. И такая во мне вдруг злость взыграла… Вспомнил тот разговор и все, что затем последовало – снятие с должности Мясищева, передачачу фирмы под крыло проходимца Челомея и прочее. Остановился и спрашиваю: “Так все-таки, Никита Сергеевич, яйца курицу учат или не учат?” Тот обалдело посмотрел на меня и ничего не понял…
Новая книга писалась быстро. Осенью того же 2005-го без малого 500-страничный том вышел в Москве в издательсте “Знак”. Бесспорно, заслуга владельца издательства и главного редактора, моего старинного друга и земляка Леонида Слуцкина. Книга под названием “Небесное притяжение” продается в России, ее можно заказать в интернет-магазинах, прежде всего, в OZON. Ее читали, как я понял, многие, реакция авиационных работников (а они самые дотошные и строгие судьи) оказалась доброжелательной, большинство приняло содержание, о чем многие написали в издательство и сообщили мне лично. Но вот туполевцев шокировала степень откровенности автора, резкость отдельных суждений. Что ж, я ожидал этого – ведь в венчающем книгу очерке “Осень патриарха” рассказывались подробности рождения и гибели первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера ТУ-144, сколоченного наспех и потому приговоренного к печальному финалу.
Андрей Николаевич Туполев не случайно назван в книге “патриархом”. Пионер цельметаллического авиастроения в СССР; руководитель ведущего ОКБ, создавшего около 80 (!) типов самолетов – больше нет ни у кого; на себе испытавший кровавую десницу сталинского режима; не имевший в отношении государства никаких иллюзий, но истово служивший ему, пресекающий любые “непатриотческие” разговоры – не из-за страха, а просто считая их неуместными; никогда не стремившийся произвести на кого бы то ни было благоприятное впечатление, вообще, не думавший об этом – принимайте таким, какой есть; порой резкий, грубоватый, хамоватый, выходец из дворян, обожавший язык извозчиков; капризный, не привыкший к несогласию, отказам, честолюбивый, лидер по натуре, жаждущий во всем первенствовать; далекий от подлости, приспособленчества, заискивания перед высоким начальством; умевший продавливать свои идеи, особенно на макетных комиссиях, нередко превращая их в балаган солеными шуточками; и еще много какой, вселяющий безграничное уважение и отталкивающий от себя…
Именно таким он и показан в книге. Моя совесть чиста – я не погрешил перед истиной. И в то же время полностью отвечаю за свои слова – его сын и наследник фирмы Алексей Андреевич в подметки не годился отцу, притом не только как, собственно, конструктор, творец новой техники. Самое главное – сын не унаследовал и сотой доли смелости, твердости характера и умения брать ответственность на себя, присущих его многомудрому и много пережившему отцу. Я писал об этом без утайки, оперируя железными фактами, свидетельствами ответственных людей, однако навлек на себя критику… Для меня лучший аргумент – позиция Л.Л. Кербера: он оказался единственным, кто открыто выступил против передачи Туполевым руководства ОКБ своему сыну. Патриарх не согласился с мнением своего заместителя, и Леонид Львович был вынужден написать заявление об отставке.
Но один эпизод я все-таки утаил, не сказал в новом издании ни слова, ни полслова. Мне казалось, это сугубо личное, не стоит выносить “на публику”. Теперь же думаю иначе: заметки на полях для того и существуют…
В начале 80-х в издательство “Молодая гвардия” обратилась группа ветеранов ОКБ с предложением выпустить в серии ЖЗЛ книгу об Андрее Николаевиче. Делом этим занимался Сергей Давидович Агавельян, многие годы проработавший на фирме и по выходе на пенсию ставший основателем и первым директором музея А.Н.Туполева. Издательству была предложена моя кандидатура в качестве автора. Издательство не возражало и попросило прислать им официальное письмо за подписью руководителя ОКБ. Письмо было составлено, требовалась подпись Алексея Андреевича. Неделя шла за неделей, а подписи все не было. Никто не мог ничего понять. Случайно из вызывающего полное доверие источника, чье имя не буду называть, стало известно – письмо подписано не будет. Почему? “Я хочу, чтобы книгу о моем отце писал русский человек”, – сказал Туполев-младший.
Я был потрясен. То, чего вовсе не было в Андрее Николаевиче, что было органически чуждо ему, выходцу из дворян, присутствовало в наследнике. Бациллы антисемитизма, витавшие в ту пору в воздухе, проникли в заскорузлую душу сына…
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Судя по всему, роль писателя-документалиста, изучающего историю отечественной авиации, вполне мне подходила. Но что-то мешало свыкнуться с этой реальностью, внутри вызревало некое отчуждение, сопротивление. Нет, я с радостью становился в книгах первооткрывателем сделанного выдающимися творцами авиационной техники, однако червячок сомнения подтачивал все сильнее. Сшитая по привычным лекалам “одежда” теснила, сковывала движения, хотелось большей свободы самовыражения. И не случайно, повинуясь неотчетливому, необъяснимому порыву, еще в середине 70-х я взялся за осуществление художественного замысла, который мог показаться неподъемным, если бы не скрытый творческий заряд, требовавший выхода, помноженный на авторское честолюбие, без чего, наверное, не рождается серьезная литература. Я начал писать роман-хронику о Достоевском и его любовнице Аполлинарии Сусловой. В художественной форме делалась попытка раскрыть взаимоотношения великого писателя и бунтарки-шестидесятницы, показывалась история их горькой любви и разрыва. Замысел смелый и во многом рискованный. С тем большим рвением взялся я за его осуществление.
Работал урывками – параллельно шла подготовка документальных повестей о Петлякове и Мясищеве, о которых уже рассказано. Судьбы романа-хроники коснусь дальше, отмечу лишь, что в 1981-м сокращенный вариант удалось напечатать в журнале “Дон”. Об отдельном издании речь не шла. И в этот момент издательство “Знание” предложило написать об академике Чаплыгине – соратнике Н. Е. Жуковского, одном из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, первом Герое Социалистического Труда среди ученых. И я согласился.
Как потом выяснилось, это была ошибка.
В самом изощренном воображении я и представить себе не мог, какие переживания меня ждут, сколько нервов будет потрачено и в какую неравную схватку с именитыми противниками буду вовлечен.
Поначалу все складывалось удачно. Я собирал материалы о жизни Чаплыгина, встречался с коллегами и учениками Сергея Алексеевича, впитывал их рассказы. Постепенно начинал вырисовываться облик выдающегося ученого и достойной личности. Рукопись была готова, весьма придирчивый многоопытный редактор Николай Федорович Яснопольский прошелся по ней, указал на некоторые изъяны, я переделал и издательство направило текст на рецензии. Были получены положительные отклики докторов наук А. А. Космодемьянского, Г.Н. Абрамовича и, что особенно приятно, – Кобзарева. Александр Александрович, будучи заместителем министра авиационной промышленности, визировал мои “авиационные” печатные работы, хорошо знал меня и поддерживал.
Была и еще одна положительная рецензия – академика Г. С. Бюшгенса, заместителя руководителя ЦАГИ, того самого ведущего института отрасли, который в свое время организовывал Чаплыгин. Удивительно, но именно этот отзыв стал камнем преткновения для выхода моей книги.
С чего начались мои неприятности? Я вычислил точно – с визита к Н. М. Семеновой, руководителю Научно-мемориального музея Жуковского, формально относившегося к ЦАГИ. Видит бог, я направлял к ней свои стопы с огромной неохотой. На то имелись очевидные причины. Надежда Матвеевна – дама строгая, властная, привыкшая повелевать, обладала мощными связями в научных кругах. Знали ее и руководители отрасли, и Генеральные конструкторы. На своем посту она немало делала для сохранения памяти о достижениях советской авиации и ее творцах. Работая над своими книгами, я общался с Надеждой Матвеевной, она относилась ко мне без особого тепла и приязни, однако кое в чем помогала, делилась музейными материалами.
Разлад у нас произошел, когда она узнала, что я пишу о Мясищеве.
– Тут я вам ничем не помогу, – холодно сказала как отрезала. – Когда ваш герой руководил ЦАГИ, отношения у нас не сложились. Так что увольте…
После выхода моей повести о Мясищеве я автоматически попал в число недругов Надежды Матвеевны.
Я это знал и с радостью бы избежал визита к ней, но уведомить Надежду Матвеевну о готовящейся к изданию научно-художественной книге, посвященной Чаплыгину, был, как мне казалось, обязан. Игнорировать ее было бы неверно с многих точек зрения. К тому же она была секретарем-референтом Чаплыгина и могла поведать немало ценного.
Директриса приняла меня в своем сумрачном кабинете. В строгом темном платье с белым отложным воротником и гладкими седыми волосами, расчесанными на прямой пробор, она напоминала нахохлившуюся недоверчивую птицу. Взгляд выцветших от возраста глаз выражал отчуждение. На подбородке проросли волосы. Мне стало не по себе.
Разговора не получилось – Семенова категорически отвергла мою просьбу поделиться воспоминаниями о Сергее Алексеевиче. Более того, при упоминании имени ученого она буравила меня чуть ли не ненавидяще. Складывалось ощущение, что я чуть ли не вторгаюсь в сокровенную часть ее души, куда доступа нет никому. Нужто я на пороге раскрытия чего-то потаенного, скрытого от посторонних? – кольнуло в сердце.
В ходе бесед с научными работниками, хорошо знавшими Чаплыгина, случайно проскочила интимная подробность – юная Наденька Семенова была его любовницей…
Я на сей счет прежде не догадывался. А если бы и знал, ни словом не упомянул в рукописи. В противном случае Семенова меня бы прокляла…
Выйдя на солнечный свет после нелегкого общения в сумрачном кабинете, я вдруг подумал, что даром мне визит не пройдет. Плохие предчувствия редко обманывали. И точно: через пару недель в адрес издательства пришло письмо за подписью начальника ЦАГИ академика Г.П. Свищева с просьбой “прислать для ознакомления рукопись Давида Гая об академике С. А Чаплыгине”. Неблагоприятный сюжет начинал раскручиваться…
Я напомнил редактору, что отзыв ЦАГИ уже имеется – за подписью Г. С. Бюшгенса. Зачем еще раз посылать рукопись? Яснопольский со мной согласился, но для страховки решил все-таки направить. Я не стал отговаривать – ведь тогда пришлось бы поделиться нехорошими предположениями, рассказать о сложных отношениях с Семеновой и пр. Пусть идет как идет. Может, пронесет…
Не пронесло. Еще через две недели Свищев, очевидно, с подачи Надежды Матвеевны (рукопись он не читал – я готов был биться об заклад), ответил издательству: книга в таком виде выйти не может, нужны кардинальные переделки. Какие, он не указал.
При этом самое неожиданное заключалось в том, что начальник ЦАГИ дезавуировал положительный отзыв своего зама Бюшгенса м дал свой – отрицательный. Случай беспрецедентный, скандальный! Я постеснялся звонить по сему поводу Георгию Сергеевичу, дабы не ставить его в дурацкое положение.
Я рассказал Яснопольскому о потаенных рычагах, управлявших ситуацией. Бывший фронтовик, Николай Федорович высказался жестко:
– Хотят угробить книгу без всяких на то оснований. Не позволим…
Началась форменная волынка. По настойчивой просьбе издательства Свищев, наконец, сообщил, какие изменения требуется внести. Я выполнил пожелания академика, прекрасно понимая – изменениями “ведала” Семенова. Вскоре пришло новое письмо: требовались другие поправки, переделки. Я засел за работу, понимая ее бесполезность – все одно книгу “зарубят”. Угодило зернышко между жерновов… Мой замечательный редактор был иного мнения, поддерживал мою угасающую с каждым днем веру в благополучный исход.
В один момент руководство ЦАГИ (читай, Семенова) предложило получить отзыв на книгу от академика Дородницына – известного математика, механика. Я навел о нем справки, то же самое сделал Яснопольский. Оба мы пришли к неутешительному выводу – его отзыв забьет последний гвоздь в крышку гроба, в котором будет покоиться моя повесть “Формула мудрости”. Дородницын входил в круг оголтелых антисемитов во главе с крупными математиками, академиками Иваном Виноградовым и Львом Понтрягиным и позднее примкнувшим к ним Игорем Шафаревичем. Надежда Матвеевна не случайно предложила кандидатуру Дородницына…
Как и следовало ожидать, академик-юдофоб прислал отрицательную рецензию.
Издательство, будучи на стороне автора и одновременно отстаивая свой авторитет, включило связи в научных верхах – и немалые. На Свищева стали оказывать давление.
В конце концов, измотанные “перетягиванием каната”, обе стороны пришли к согласию. Мне пришлось удалить около 15 “невинных” страниц текста, не особо снизивших качество повести. Лучшие, на мой взгляд, места остались, к счастью, нетронутыми. “Формула мудрости” вышла в свет.
Зафиксированы любопытные выходные данные. Рукопись была сдана в набор 10 января 1984-го, а подписана к печати 29 ноября. Итого, битва продолжалась одиннадцать месяцев! Сколько нервов и сил я потерял из-за происков злобной старухи, одному богу ведомо.
“А БУДЕТ ЛИ ТАКОЙ ГОРЬКИЙ ПОНЯТЕН НАРОДУ?”
Среди моих вышедших в конце 70-х книжек одна, притом не на тему авиации, особенно дорога. Родилась она из газетного очерка, когда партийные власти еще не придумали идиотского, на мой взгляд, требования превратить “Вечерку” в газету малых форм. Мы имели право публиковать статьи и репортажи объемом не более трех страниц на машинке через два интервала. Некрасовский девиз: “Писать надо так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно” при всем желании уложить в прокрустово ложе нового требования было невозможно. Требовалось чем-то жертвовать – жертвовали мыслями.
А десятилетием раньше мы могли писать, не слишком заботясь количеством страниц. Молодой репортер, я нашел золотоносную жилу, ведя рубрику “Рассказы о мастерах”. Страсть к авиации пришла чуть позже. Очерки на тему мастерства, уникального, неповторимого, теряемого в советской заштампованности всего и вся, занимали целую полосу. Одним из первых появился очерк о знаменитом бронзолитейщике Лукьянове. За полвека удивительный мастер художественного литья одел в бронзу множество скульптурных портретов, бюстов, статуй, памятников. Только для Третьяковки он выполнил более 500 работ. Владимир Васильевич возродил восковый, итальянский, способ литья, позволивший создавать потрясающие тонкостенные отливки.
Спустя несколько лет родилась книжица о нем – тоненькая, всего 80 страниц, но для меня “томов премногих тяжелей”.
Я подружился с Лукьяновым – невысоким, крепко сбитым, без устали трудившимся в литейных мастерских, тонким ценителем прекрасного. Я узнал от него бездну вещей, о которых прежде имел весьма приблизительное представление. Мастер был близко знаком с элитой скульпторов, которые не просто уважали и ценили его, а некоторые души в нем не чаяли. Рассказы Владимира Васильевича об истории и судьбе, нередко драматической, московских памятников расцветили мою книгу “Поющая бронза Лукьянова”. Она и впрямь была поющей. Вот только писать об этом в полный голос, не скрывая важные подробности, не боясь называть имена, оказалось невозможно. В издательстве “Московский рабочий” меня строго предупредили – никаких вольностей. Цензура все равно не пропустит… В итоге и эта ранняя моя документальная повесть оказалась самооскопленной.
…Благодаря Лукьянову я узнал “подноготную” созданного Верой Мухиной памятника Чайковскому у московской консерватории. Эзоповым языком изложил ее, стыдясь и негодуя, что вынужден писать именно так. В такие условия был поставлен не один я – все авторы находились примерно в одинаковом положении… Впрочем, не все – большим писателям дозволялось чуть больше. Вот оценка памятника композитору, сделанная Паустовским в “Золотой розе”: “Если “святое” вдохновение “осеняет” (обязательно “святое” и обязательно “осеняет”) композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие несомненно звучат сейчас в его душе, – совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве”.
Cлащавом – совершенно точно. Описывая все перипетии, я написал примерно так – и был подвергнут критике, редакторы вычеркнули уничижительный эпитет.
Что же произошло с памятником? В 1945 году Вера Игнатьевна Мухина получила персональный заказ на создание памятника Чайковскому в Москве, будучи уже признанным мастером и одной из немногих женщин-скульпторов в СССР.
Первоначальным планом Мухиной было стремление изобразить композитора, дирижирующего стоя. Но от этого варианта она была вынуждена отказаться, так как это требовало достаточно большого пространства (то есть для этого нужна была целая площадь, а не маленький дворик в центре Москвы), кроме того, дирижёрская деятельность не была единственной и основной в жизни Чайковского.
Поэтому Мухина предложила второй вариант скульптуры, в которой Чайковский изображён сидящим в кресле, правая рука с карандашом лежит на пюпитре с раскрытой нотной тетрадью, левая поднялась, словно отбивая ритм мелодии. Скульптор стремилась передать образ композитора в момент творческого вдохновения. Пюпитр поддерживала кариатида, от постамента в обе стороны шла скамья с решеткой, в ее середине, внутри чугунного орнамента – музыкальные линейки, на них – нотные знаки главных музыкальных тем национального гения. На противоположной грани пьедестала вырисовывался горельеф мальчика-пастушка со свирелью – символ неразрывной связи Чайковского с родной землей…
Вариант скульптуры вызвал замечания. Прежде всего, не понравилась статичная фигура Чайковского, застывшая в неестественной напряжённой позе. Но главная претензия заключалась не в этом. Как вспоминал Лукьянов, скульптор Меркуров предложил убрать фигуру пастушка из опасений, что она будет восприниматься как намёк на гомосексуальность
Петра Ильича. Меркурова поддержал композитор Шебалин. Пастушка убрали. И провисла левая рука кампозитора. Тогда Мухина изваяла фигуру старика-волхва, однако в ходе работы отказалась и от неё.
Дело застопорилось. Лишь через два года был принят второй вариант памятника. Однако ещё несколько лет не было решения об установке, несмотря на то, что бронзовая фигура уже была отлита Лукьяновым. Вера Игнатьевна несколько раз обращалась с просьбой ускорить решение об установке памятника в различные инстанции, дважды писала Сталину. 26 сентября 1953 года тяжелобольная, она писала Молотову: “…Вы получите это письмо, когда меня уже не будет в живых.<…> Поставьте моего Чайковского в Москве. Вы, может, помните, как на просмотре «Рабочего и колхозницы» мы с Вами спорили и Вы, наконец, мне поверили, поверили чутью художника. Я Вам ручаюсь, что эта моя работа достойна Москвы…”
Скульптурная часть памятника была завершена учениками Мухиной З. Г. Ивановой
и Н. Г. Зеленской.
Открытие памятника состоялось в 1954 году. Самой Вере Мухиной не удалось увидеть открытие памятника – она скончалась 6 октября 1953 года.
…Среди студентов консерватории ходила легенда, что бронзовые ноты с партитуры памятника приносят удачу в учебе и музыкальном творчестве. Когда в 2007-м памятник стали реставрировать, то недосчитались множества мелких деталей.
Герой моего повествования в той или иной степени оказался причастен к этим событиям. Подружившись с Верой Игнатьевной еще до войны, он видел, как она переживает, страдает.
“Замечательная женщина была, большого ума, разносторонних интересов, открытая, искренняя, удивительно простая, – вспоминал Лукьянов. – В 47-м Вера Игнатьевна переехала в новый дом близ Кропоткинской улицы. Наконец-то и у нее появилась большая светлая мастерская, с поворотным кругом, подъемником для тяжелых скульптур. Я жил тогда по соседству, вблизи Зубовской площади, бывало, зайдет Вера Игнатьевна в гости, без предупреждения, как говорится, на огонек. Да… Работала она без устали, по десять-двенадцать часов. Иногда, правда, сердечко пошаливало – стенокардия… Судьба ее ох какая трудная была, даром что пятикратный лауреат Сталинской премии. Вроде обласкана властью, а на поверку… Над мужем ее, Замковым Алексеем Андреевичем, измывались…”
В начале 70-х многое, естественно, оставалось “под замком” (простите за неудобный каламбур), не обнародовалось, запрещалось обсуждать, тем более публиковать. И однако я решил докопаться до смысла слов Владимира Васильевича. Кое-что поведал он сам.
Со своим будущим мужем Мухина познакомилась в госпитале. Работала санитаркой, помогала выхаживать раненых. В 1916-м военный хирург Замков тяжело больным с фронта попал в госпиталь. Через два года они поженились. В браке родился сын, которого назвали Всеволодом. В четыре года, после травмы ноги, мальчик заболел костным туберкулезом. Врачи отказались его лечить, поскольку случай считали безнадежным. Но отец не опустил руки: когда выхода не осталось, он сам прооперировал ребенка дома, чем и спас сыну жизнь. Всеволод выздоровел, бросил костыли, получил хорошее образование,стал физиком.
Карьера доктора Замкова резко пошла вверх после того, как созданный им в 1929 году гормональный препарат “гравидан” (из мочи беременных) дал заметный эффект при лечении целого ряда заболеваний, включая импотенцию. (Своего рода русская виагра?!) Однако в 1930 году, под лозунгом “борьбы со знахарством” работы по препарату были остановлены, а Замков уволен из Института экспериментальной биологии. Он пытался нелегально, вместе с женой и сыном покинуть СССР, но был пойман, обвинён в попытке продажи секрета своего изобретения за границу и осуждён на административную ссылку. В те относительно “кошерные” времена за это не расстреливали…
Сведения о необычном препарате (в немалой степени усилиями Горького) дошли до высшего руководства страны, Замков был досрочно освобождён и назначен директором специально созданной лаборатории. Пациентами Замкова стали известные советские политики и деятели культуры. Применение препарата считалось столь перспективным, что в 1933-м году был организован Государственный институт урогравиданотерапии, директором которого и стал Замков.
Гравидан удостоился статьи в 33-м томе Большой Медицинской Энциклопедии (1936 г.)
Пришел год Большого террора. Кругом шли аресты, в их числе оказались близкие родственники мужа Мухиной. Ну, и, конечно, лютая зависть коллег, которые не могли пережить славу Замкова. В 1938-м институт был расформирован, научная и медицинская деятельность Замкова подвергнута обструкции. Замков тяжело заболел, у него случился первый инфаркт. В войну он оказался на Урале. А после возвращения в Москву умер от второго инфаркта в возрасте 59 лет.
По некоторым сведениям, Замков послужил прообразом профессора Преображенского в “Собачьем сердце” Булгакова…
***
Реальность порой выступает в роли удивительного, интригующего послесловия к некогда написанному и изданному. Так случилось и с книгой о бронзолитейщике Лукьянове.
… Лето 1974-го в разгаре. Я подарил Владимиру Васильевичу с десяток только что отпечатанных экземпляров “Поющей бронзы Лукьянова”. Старик расчувствовался, обнял и поцеловал меня, прослезился. Он пригласил отметить выход книги в ресторане “Баку”. Кормили там на убой, очень вкусно. Мы выпили бутылку водки под роскошную кавказскую закуску, шашлыки и плов. Лукьянов был в ударе, вспоминал веселые и грустные истории общения со скульпторами, а он знал, по сути, всех именитых и все знали его. В общем, мы провели замечательный вечер.
Прошло дня три-четыре. Звонок от Лукьянова.
– Мой дорогой, завтра суббота, вы свободны утром? Отлично. Я заеду за вами и мы кое-куда направимся. Не спрашивайте ни о чем – это сюрприз.
Ровно в десять утра у подъезда моего дома стояла старенькая “Победа”. Владимир Васильевич был за рулем. Шоферил он много лет, в войну мотался по фронтовым дорогам на полуторках.
– Машину эту мне Вера Игнатьевна подарила, – предупредил мой возможный вопрос. – Я редко езжу, только на дачу, потому и сохранилась…
Мы ехали долго, через всю Москву, пока не попали в Перово, точнее, в Карачарово, где находилась бронзолитейная мастерская. Вокруг было пусто – выходной. Лукьянов вышел из машины, повел меня на задворки, открыл кукую-то подсобку и начал рыться в ящиках, уставленных в два ряда на земляном полу и укрытых тряпьем. Было очевидно, сюда почти не заглядывают… Наконец, он нашел то, что искал, подтащил грубо сколоченный ящик в выходу, чтобы было побольше света, и с помощью молотка и зубила вскрыл крышку. Древесная стружка скрывала очертания скульптурного портрета в бронзе. Мастер ловко приподнял его, вытащил из ложа и стряхнул стружку.
– Узнаете?
Мне явилась голова Горького высотой на глаз в метр. Разметавшиеся вихры, вздернутые мохнатые брови, свисающие треугольником усы… Потрясающая работа.
– Неужели Шадр? – выказал осторожное предположение. – Откуда она у вас?
– Она самая. Та, которая должна была венчать памятник у Белорусского вокзала и которую бросили в переплавку, а я спас, спрятал и сохранил. Это мой подарок вам…
…Лукьянов познакомился с Шадром еще в 1924-м. С той поры встречались часто – Лукьянов бывал на Шаболовке, во дворике с навесом, где на открытом воздухе трудились Шадр и группа мастеров. Осанкой Шадр напоминал Шаляпина – высоко и горделиво носил красивую голову. Рассказывали, будто Роден заметил учившемуся у него Шадру: “Молодой человек, я верю, что вы гений, но зачем же так задирать голову? ” Однако все объяснялось особым строением шейного позвонка…
В 1939-м Иван Дмитриевич вылепил портрет Горького последних лет жизни и попросил Лукьянова перевести в металл. Портрет оказался труднейшим для исполнения. Шадр заострил черты лица, сделал рельефными брови, скулы. Что получится в металле?
Уже отформовав модель, Лукьянов обратил внимание на горьковские усы. Один ус был короче другого. Выяснить у скульктора нельзя – лечился в Сочи, связи не было. Подождать с отливкой до его возвращения? А вдруг сорвешь сроки, подведешь скульптора? Лукьянов стал отливать как есть. Но чеканить не стал, решив дождаться автора. Вернувшись, Шадр первым делом поехал в мастерскую. Придирчиво осмотрел портрет и поблагодарил мастера за отменную работу. И тут Лукьянов спросил про усы. Шадр расхохотался: “Вот, оказывается, какие сомнения тебя одолевают… Левый ус у Алексея Максимовича действительно был длиннее на сантиметр. Так я и вылепил. Волновался ты, Володя, напрасно, а вот за то, что не чеканил без меня – спасибо. Сделаю сам”.
Иван Дмитриевич скончался в апреле 1941-го. На его могиле Мухина дала обещание закончить памятник Горькому. Война победно завершилась, Мухина принялась за дело. Помогали ей подруги и соавторы Зеленская и Иванова. Вначале метровую модель увеличили в пять раз. Но при этом сбились пропорции, модель “располнела”. Пришлось переделывать сообразно замыслу и скульптурной задаче.
Для памятника Вера Игнатьевна взяла ту самую голову писателя, потрясающе выполненную Шадром. Портрет поражал воображение каждого, кто его видел. Первый осмотр, еще в глине, прошел вполне успешно. Специально приехавший в мастерскую Ворошилов заместил: “Подлинный, настоящий Горький, только уж очень худой…” “Тонкий” ценитель искусства, он в данном случае попал в точку.
Мухина получила разрешение на отливку. Попросила Владимира Васильевича достать самую лучшую бронзу. Лукьянов отлил готовую пятиметровую модель. Ее выставили для всеобщего обозрения в Центральном парке культуры и отдыха. А тем временем первый секретарь Московского горкома партии Георгий Попов повез крупное фото памятника показывать Сталину, отдыхавшему на Рице. Без благословения вождя памятники не возвигались. Равно как и все прочее, включая музыку, кино, литературу, требовавшее высочайшего одобрения.
…Не могу отказать себе в удовольствии и не вспомнить эпизод из прошлого моей тогдашней родной газеты, который, впрочем, никакого отношения к теме памятника не имеет. И тем не менее… Замом главного редактора “Вечерки” был родной брат московского партийного начальника Митька Попов. Слыл он пьяницей, дебоширом, бабником. Все сходило ему с рук. И вот однажды… Однажды он спозаранку приехал на работу на Чистые пруды, где находилась редакция. Был Митька с сильного бодуна. Каждый рабочий день, в половине одиннадцатого утра, начиналась планерка. Хромая секретарша Лиза (я ее еще застал) выходила в коридор с колокольчиком наподобие ботала, привязываемого к шее пасущихся коров и лошадей, тренькала им, и ответственные сотрудники гуртом шли в редакторский кабинет обсуждать вышедший номер и готовить следующий.
На сей раз все происходило иначе. Митька взял колокольчик-ботало, вышел в коридор и громогласно объявил: “Евреи, на планерку!” В ответ все восемь заведующих отделами дружно потянулись в кабинет главного…
Напомню: набирала темп “борьба с космополитами”, раскрывались литературные псевдонимы, уже был убит Михоэлс… “Вечерка” же оставалась неким еврейским оазисом в окружении свирепеющих антисемитских происков, разоблачительных статей, увольнений. Удивительно, но факт.
Вернемся к моменту демонстрации Георгием Поповым фотографии памятника пролетарскому писателю. Сталин долго смотрел на изображение Горького. Трудно сказать, какие мысли одолевали престарелого склеротического вождя. Этого мы никогда не узнаем. Возможно, он, напрягая память, перебирал обстоятельства кончины Алексея Максимовича, кто помог ему уйти на тот свет, и как на известном московском судебном процессе по делу «правотроцкистского блока» нескольким людям вменяли в вину убийство не только Горького, но и его сына Максима Пешкова. Возможно, ни о чем таком он не думал, а просто вглядывался в жесткие черты лица, в непокорные вихры, острые скулы, мохнатые брови. Перед ним представал не Буревестник революции, а ее Судия.
После долгого раздумья Сталин произнес: “А будет ли такой Горький понятен народу?” и многозначительно посмотрел на Попова.
Из многолюдного парка памятник убрали и отправили в переплавку. Сильно рискуя, Лукьянов отделил голову от “тела” и надежно упрятал на долгие годы. Во что бы то ни стало мастер хотел сохранить шедевр для потомков. Никто об этом не знал. Не знал и я, работая над книгой – Лукьянов держал секрет при себе, готовя сюрприз.
Я попробовал рассказать в книге об этом эпизоде, но редактор и его начальница резко возражали. Шла середина 70-х, хрущевские разоблачения, обвинения Сталина в “культе личности” старались забыть. Была резко ограничена критика вождя, которая преобладала в период “оттепели”. Его фраза, решившая судьбу творения Шадра, в тексте осталась, однако привязана была к мнению “осторожной, всезнающей комиссии”. Издательство явно перестраховывалось. Что же касается меня, то таковым стало еще одно самооскопление...
И вот теперь работа Шадра была подарена мне.
Резонный вопрос, а почему Владимир Васильевич не отдал ее в Третьяковку? Из его объяснения я понял: во-первых, боялся, что взгреют за самоуправство, во-вторых, навел справки и выяснил, что копия горьковской головы якобы имеется в Третьяковке и хранится в запаснике. Он не поверил, но проверять и докапываться до истины не стал. Его вполне устраивало, что шедевр будет храниться у автора книги о нем.
Голова заняла почетное место в небольшом холле моей квартиры на улице Тухачевского. Полая изнутри, изящно отлитая, тонкостенная, она отзывалась нежным, мелодичным звоном при легком нажиме и пощелкивании. На голове любил сидеть кот Тимофей, доставшийся от уехавшего в эмиграцию моего друга и бывшего коллеги Бориса Винокура. Видимо, бронза хорошо грела живот и лапы. Я не видел в этом никакого кощунства или уничижения творения Шадра.
Вернусь к событиям подготовки памятника Горькому к установке на площади у Белорусского вокзала. Мухиной предстояло убрать “чрезмерную” заостренность черт лица писателя, снивелировать нарочито проповеднический облик. Началась изматывающая, непосильная работа на открытом воздухе, в любую погоду – время не ждало. К счастью, Лукьянов сохранил после отливки гипсовую модель. Переделка велась прямо по ней. Мухина и ее помощницы вынужденно срубали в одних местах толстые слои гипса и наращивали в других. Что они при этом чувствовали, знали только они. По сути, рождалась новая голова.
Второй вариант памятника, на сей раз в гипсе, выставили на территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Шли недели за неделями, дожди обмывали гипс, материал понемногу портился, а приемочная комиссия не торопилась. Тогда три женщины написали письмо в правительство. Буквально через два дня в спешном порядке был устроен просмотр. Работу приняли. Лукьянов одел памятник в бронзу.
От волнения Вера Игнатьевна заболела, потеряла голос. На открытии памятника она не присутствовала. Торжественную церемонию смотрела по телевизору. Малюсенький экран и помехи мешали увидеть все что хотелось.
Лукьянов навестил Мухину. Сердцем уловил ее скверное настроение. Не только нездоровье было тому причиной.
– Мой дорогой, тебе могу сказать откровенно: первый вариант головы выглядел много лучше, острее. Интереснее было работать над первым памятником. А этот… Шадр пришел бы в ужас…
Финал всей этой истории сродни детективу. Уже шла перестройка, цензура приказала долго жить. Я рассказал в “Вечёрке” перипетии создания памятника Горькому и сопроводил фотографиями. Для чего договорился с московскими пожарными, те пригнали к памятнику подъемное устройство, наш фотокорр забрался на пятиметровую высоту и крупным планом запечатлел голову. Затем мы приехали ко мне домой, фотограф снял подлинник. Оба снимка в газете стояли рядом. Любой непредубежденный читатель мог увидеть разницу в пользу оригинала…
А потом я эмигрировал и отдал скульптурный портрет московскому приятелю. Он держал его в своей маленькой галерее. Появилась идея подарить шадровскую работу мэрии Нижнего Новгорода во главе с Борисом Немцовым, но что-то не срослось. Продавать портрет я не хотел, да, по правде, он никого в России не интересовал – времена изменились. И тогда желание иметь шедевр изъявил мой товарищ, бизнесмен и литератор, живущий в Стейтен- Айленде (Нью-Йорк).
Существовала некая связь между писателем и этим районом (боро) Нью-Йорка. Именно здесь Горький начал писать роман “Мать” во время полугодового пребывания в CША в 1906 году. Приплыл он на пароходе вместе с любовницей, знаменитой актрисой Марией Андреевой. В пуританской Америке внебрачные связи не приветствовались, им пришлось пережить скандал, их не хотели селить в гостиницах… Дочь известного в Нью-Йорке врача Престония Мартин с мужем поселила писателя и его пассию на своей вилле в Стейтен-Айленде.
Прекрасно, но как доставить бронзового Алексея Максимовича в Америку? Российская таможня и близко не пропустит такой груз. Художественная ценность его несомненна, плюс недешевая бронза… Но в России нет ничего невозможного, если наличествуют деньги и связи. Была разработана специальная операция по перевозке шедевра из Москвы в Нью-Йорк. В итоге шадровский подлинник уже несколько лет украшает “русский” дом в Стейтен-Айленде.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этой главе. Одно огорчает: в разного рода информационных сообщениях, публикациях и путеводителях относительно памятника Горькому у Белорусского вокзала нет ни слова об истинной его “биографии”. Словно и не выходила книга о Лукьянове, пусть и в урезанном виде, и не писала дважды “Вечерняя Москва” о судьбе скульптурного портрета писателя, сохраненного выдающимся мастером художественного литья…
“ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ”
Тем временем чудище обло, озорно, стозевно и лаяй, похоже, приказало долго жить. Речь шла о цензуре. В период перестройки ей дали окорот.
Ослабление цензуры поначалу выразилось в декларировании Горбачевым политики “гласности”. В 1986 году Главлит издал приказ, в котором цензорам было дано указание сосредоточить внимание на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати, и информировать партийные органы только о существенных нарушениях в идеологической сфере.
Одним из первых проявлений новой тенденции стала публикация в журнале “Огонёк” стихов Николая Гумилёва. Затем перестали глушить радиопрограммы “Голоса Америки” и некоторых других западных радиостанций. Полностью глушение прекратилось в ноябре 1988-го.
1988-й стал прорывом в части публикации множества ранее запрещённых авторов. В частности, были напечатаны романы “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына, “Доктор Живаго” Пастернака, “Жизнь и судьба” Гроссмана и другие. С 1986 по 1990 годы было напечатано такое количество ранее запретной литературы, что Юрий Лотман назвал это время “культурным взрывом”.
Книги, газеты и журналы стали выходить без предварительной цензуры. А затем и Главлит был упразднён.
Я сознательно не хочу касаться нынешней ситуации с цензурой в путинской России, которая хотя формально и не восстановлена (запрещена Конституцией!), однако реально существует и ужесточается с каждым месяцем. Функции советского Главлита успешно выполняет Роскомнадзор. Тема эта широкая, многогранная (цензура в соцсетях, на телевидении и пр.), требует отдельного пространного разговора, не входящего в мою задачу. Отмечу лишь: официальные запреты, наказания в виде штрафов и иные “меры воздействия” все больше сочетаются с самоцензурой. Руководители сетевых порталов, телеканалов, газет, журналов, издательств и т.д., дабы не навлекать на себя неприятности, решают, что пропустить, а что изъять, зарезать. И весьма успешны в этой своей запретительной функции.
Что касается меня, то лучшее, что я написал, живя в СССР, относится именно к недолгому, увы, горбачевскому периоду.
Оглядывая с высоты прожитых лет извилистый путь сочинителя, прихожу к выводу, что ничего случайного в нем нет, всё обусловлено и запрограммировано – просто в определенные моменты я этого не осознавал. Вообще, случайности – не случайности, а закономерности. Как мудро заметил Булгаков, кирпич просто так на голову не падает… Случайность имеет немало синонимов: совпадение, нечаянность, непредвиденность, игра случая, ирония судьбы… Не знаю, какой из этих синонимов наиболее применим к моей ситуации, но в середине 80-х мне открылся мир, который жил внутри долгие годы и дотоле не находил выхода. Я решил писать о себе.
Я не прощался с документалистикой, не ставил на ней крест (было бы глупо!), однако более всего меня теперь интересовал мой протагонист, то есть я сам – со всеми моими заморочками, заполошными мыслями, чудесатыми устремлениями, глухим одиночеством, неизбывной тоской, горькой любовью, иллюзиями и надеждами и еще бог знает с чем.
Я хотел разговаривать с собой, исповедоваться самому себе, часто себя осуждать и куда реже хвалить, злиться и ругаться, огорчаться и радоваться, судить себя праведным судом, не давая поблажек; я хотел, повторю, писать о себе, откровенно и беспристрастно, привлекая к рассказу множество лиц, персонажей, в каждом из которых частичка меня – хорошего и скверного. Я готовился собирать их как осколки выроненного разбившегося стакана, не боясь пораниться.
…И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Пушкинские строки незаметно следовали за мной по пятам, будто соглядатаи, я безропотно запустил их в свою жизнь. Я не смывал строк печальных, однако не желал подвергать себя самоуничижению, саморазоблачению, самоказни, это было бы разрушительно – я лишь искал потаенное, что могло лечь в основу будущих сюжетов. Я решил писать о себе, находя внутри достойный для отображения материал.
Так родился сюжет повести “День рождения”, изданной в начале 1987-го. Название символично – с этой вещи я начался как прозаик.
Благополучный, вполне преуспевающий Ростислав Юрьевич (Славик) вспоминает, что его матери вскоре исполнится восемьдесят, и решает втайне от старухи подготовить юбилей, созвать уйму гостей и устроить таким образом для Анфисы Ивановны сюрприз.
Перед нами развертывается жизнь Славика, его детство послевоенной поры, юность, становление – и параллельно судьба матери, поднявшей сына в одиночку, будучи вдовой убитого в войну солдата. И постепенно чудится, звучит едва уловимым подтекстом – сюрприз с юбилеем должен закончиться бедой. Анфиса Ивановна случайно узнает о намерении сына, умоляет не устраивать тарарам, но тот упрямо стоит на своем, во что бы то ни стало желая отпраздновать юбилей матери. Для него это своего рода отпущение грехов самому себе…
Старуха от волнения получает инфаркт, Ростислав Юрьевич дежурит в больнице и без конца повторяет слова сына Павлика, в сердцах брошенные родителям в связи с болезнью Анфисы Ивановны. “Вы не для бабушки старались с этим идиотским днем рождения, для себя старались. Не о ней думали – о себе. Дескать, пусть вокруг видят, какие мы заботливые, внимательные. Себе польстить хотели, бальзам на сердце пролить. Бабушка для вас неодушевленный предмет – вещь, вроде нужная, полезная в хозяйстве, выкидывать жалко, пускай существует: потому и держали в секрете юбилей, не поинтересовались, хочет ли она его. Разве у вещи спрашивают согласие…”
Работая над повестью, я видел себя Славиком, образ старухи непроизвольно сочетался с обликом моей матери – собственно, и писалась вещь о ней, и горькие слова Павлика звучали в мой адрес, хотя никакого юбилея я не устраивал. Мать ушла из жизни 10 мая 1986-го. Упреки одного из героев повести я принимал на свой счет и запоздало просил прощения у дорогого мне человека, к которому не всегда был внимателен…
“По Анфисе Ивановне можно было проверять часы: ложась в постель рано вечером, без всякого будильника ровно в одиннадцать просыпалась и следовала по своим делам, шлепая стоптанными задниками тапочек. С всклокоченными седыми буклями, в халате до колен, едва прикрывавшем розовую ночную сорочку, со старческими, варикорзно расширенными венами ног, подслеповато щурившаяся от света, мать порой вселяла в Ростислава Юрьевича горючую жалость. Натыкаясь на бредущую со сна неверным шагом мать, он прижимался к стене коридора, пропуская ее и не задерживая ненужными разговорами. В последний год она резко сдала, внутри произошел невидимый слом, усохла, сгорбилась, движения потеряли былую плавность… Перемена свершилась быстро, и Ростислав Юрьевич столь же быстро привык к изменившемуся облику матери… Нынешняя Анфиса Ивановна испарила в его памяти себя прежнюю, будто бы всегда выглядела усохшей и пригорбленной; он принял происшедшее как должное, неизбежное, и оттого волна жалости приливала все реже.
Но что-то внятно уловимое сохранилось в ней, не поддалось слому и усыханию, продолжало существовать вопреки неизбежному влиянию возраста, как под грубой отверделой корой скрывается мягкая, нежная мезга. Знавший Анфису Ивановну много лет, если бы внимательно пригляделся, мог бы заметить прежние искорки, нет-нет и вспыхивавшие в спокойно-задумчивых, отнюдь не блеклых, не выцветших глазах, поворот головы и движения плечами, выказывавшие достоинство и самоуважение, а если бы прислушался к ней, отметил бы разумность немногословной негромкой речи, согретой прежней нерастраченной любовью, пониманием сокровенного в душе каждого близкого ей человека и некоей долей простодушного лукавства, присущего детям и старикам, которого понапрасну лишены люди, находящиеся между этими границами бытия.
Ростислав Юрьевич, по всей видимости, не был наблюдательным; при своей занятости и замороченности делами он не слишком приглядывался и прислушивался к матери – лишь изредка жалел ее, и то не сердцем, а скорее разумом”.
Читатели и критики книги подчеркивали: “День рождения” тональностью и настроением близок городским повестям Юрия Трифонова. Ростислав Юрьевич – типичный конформист, самовлюбленный и эгоистичный, такие делают карьеру, не осознавая, какие нравственные потери при этом испытывают, и лишь особые обстоятельства (в данном случае инфаркт матери) приоткрывают им глаза на себя и свою жизнь.
“Каждый пишущий пишет свою автобиографию, и лучше всего это ему удается, когда он об этом не знает”.
Мне не было знакомо высказывание немецкого драматурга Кристиана Геббеля. Узнал его от одного критика и поразился – будто про меня. А эту цитату писательницы-американки выудил из какой-то литературоведческой статьи: “Все мы – герои своих романов”. Писать – значит читать себя самого.
Я столкнулся со своеобразной антиномией: реальные факты ложились в основу повествования “подправленные” воображением, они иногда противоречили друг другу, но, в сущности, дополняли картину. Пережитое и прочувствованное переполняло, рвалось наружу, я едва справлялся с потоком детских, отроческих и взрослых историй, грозивших захлестнуть. Приходилось жестко отбирать, сожалея, что многое остается за кадром. Подлинное и придуманное жили рядом, порой я не отличал одно от другого, происходило на самом деле или являлось плодом фантазии – для меня не было разницы. Мой герой Ростислав Юрьевич не мог убедить себя в том, что его младенческая память не была собственной, незаимствованной, возникшей из его видения, осязания и чувствования, а явилась продуктом чьих-то рассказов, знакомых сызмальства и осевших в ячейках гиппокампа. С наивным упрямством он не мог смириться с взятыми, выходит, взаймы, напрокат ощущениями и всякий раз доказывал, что помнит сухой треск пулеметной очереди, когда за матерью, прижимавший живой комочек, то есть его-грудничка, гонялся немецкий воздушный разведчик, помнит приезд майора дяди Шуры, запретившего матери уходить с беженцами подмосковными дорогами во время паники в столице, помнит госпиталь и раненого отца с бородой, качавшего его на руках… Мать обычно слушала его признания, улыбаясь ласково-снисходительно, краешком губ,как ведут себя взрослые люди, сталкивающиеся с очевидными детскими фантазиями. “Славик, родной, это ж я все рассказывала, вот тебе и примстилось…”
Процесс отбора не проходил гладко – я вынужденно сдерживал, стреноживал себя: редакция художественной литературы “Московского рабочего” не принадлежала к числу смелых (да и были ли такие в первый год перестройки, когда Горбачев робко собирался строить “социализм с человеческим лицом” и реформировать партию). Хозяин полуподвала на улице Мархлевского Дмитрий Иванович, сдававший Славику жилье, фронтовик, машинист тепловоза, вышедший из партии по собственному желанию в 1953-м, был списан с натуры. Удивительно, его не уволили и не посадили. Редакторша вычеркнула из рукописи фразу о добровольном выходе из коммунистов и предупредила не вольничать.
С этим я еще мог смириться, но по мере работы над повестью мной овладевало смутное чувство, оно гнездилось глубоко внутри, тяготило, потаенно-тревожное, не имевшее объяснения. Я тщетно гнал его от себя. Чувство это касалось много большего, нежели рождавшийся текст, выходило за рамки очерченной мной творческой задачи.
Готовую рукопись я дал почитать матери. Прежде так никогда не поступал, но тут случай был особый. Она читала долго, две недели, я не торопил. Наконец, позвала на разговор. Усевшись на тахту, положила руки со вздувшимися синими венами на колени, пожевала губами, словно беззвучно что-то вышептывала.
– Анфиса Ивановна, значит? – не то спросила, не то просто подтвердила. – Мне приятнее было бы под своим именем – Дора Вольфовна…
– Мать, ну ты даешь! Это же литература…
– Понимаю, не дура, и все ж… И зачем ты мужа моего, своего отца смертью героя отметил? Судьба у него тяжелая была, но – выжил, и тюрьму сталинскую прошел, и фронт, тринадцать осколков в правой руке. Госпиталь в Лефортове хорошо, правильно описал, вспомнил мои рассказы. А вот о письмах его с фронта – ни слова. Хотя бы одно письмо упомянул: как Юзя про то как назвать ребенка. Ведь он не знал, кто родится, мальчик или девочка. Если мальчик, просил назвать его именем. У евреев именами живых родителей новорожденных не называют, следовательно, заранее хоронил себя. Я не послушала, тебя именем деда назвала… Может, тем и спасла Юзю…
Смутное чувство внезапно исчезло, растворилось в пространстве. Откровения матери, отчасти наивные, сняли пелену с глаз – таившееся под спудом навалилось ледяной глыбой, перекрыло кислород, я задышал глубоко и часто. Все предельно просто: я писал о русской семье, в подкорке думая о еврейской, осознавая невозможность такого издания, что и рождало неясную смуту в душе. В придуманный мною сюжет еврейская реальность никак не вписывалась – это должна была быть совершенно иная книга…
Вспоминая в повести игры и забавы детворы, в том числе особые, родившиеся как отголоски и отзвуки недавней войны: “ножички”, “казаки-разбойники”, а также штандр, жостка, педилка, пристенка, ходули и самое безобидное – ловля майских жуков, я не мог выбросить из головы услышанное однажды, когда, вовлеченный в азарт игры, невольно вскрикнул: “Ой, я не могу!” и услышал в ответ от соседнего пацана по кличке Жердяй осудительно-пренебрежительное: “Евреи всегда не могут…” Как не мог забыть соседку тетку Домашу, угощавшую вишнями и поившую чуть сладковатым козьим молоком, вмиг изменившуюся зимой 53-го, шипевшую мне вслед: “У, жиденок паршивый, жалко, Гитлер вас всех не уконтрапупил…” Я уже знал про “врачей-убийц”, я перестал водиться с уличными дружками, вернее, они со мной, в школе меня постоянно задирали… Я чувствовал себя отройком, чужим, не таким как окружающие, и замкнулся в себе. Такое мое состояние никак не могло поселиться в Ростиславе Юрьевиче, Славике, он по замыслу был совсем другим.
Повзрослев, я вывел для себя простую истину: веками евреев ненавидели за то, что они отличаются от других; прошло время, мы стали наравне со всеми и теперь нас ненавидят за то, что хотим быть как все и уже в одном этом виновны.
А мать, сама того, очевидно, не желая, продолжала корить меня неосуществленным: “Помнишь “дело врачей”, как Розу, сестру Юзину, и ее мужа Моисея с работы уволили, как соседи нам грозили? А смерть Сталина? Как Юзя на радостях напился и гонял пластинки с маршами? В повести нет этого…”
О, тот день я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Оповестила нас о случившемся тетя Маня. Распатланная, в незастегнутом халате, наброшенном на ночную сорочку, влетела на кухню и закричала несвойственным ей пронзительно-взвизгнувшим голосом:
– Сталин умер! Включите радио!
Голос Левитана вибрировал и подрагивал. Он объявлял то, во что нельзя, невозможно было поверить. На нашу половину пришли тетя Роза и дядя Моисей. Первой заплакала тетя Маня, она не успела сделать прическу, уложить на зытылке венчик тонких косичек, ее темно-каштановые, тронутые сединой волосы лежали в беспорядке. Потом заслезились остальные, кроме дяди Моисея, слепившего губы ниточкой, словно боявшегося проронить неосторожное слово. Я плакал со всеми, дергал подол материнского байкового халата и повторял вслед за тетей Розой:
– Как мы жить будем?! Как жить будем?!
Мать не пустила меня в школу, да я не особенно настаивал.
День тянулся медленно, казалось, ему не будет конца. Из черной тарелки звучали скорбные слова, лились печальные мелодии. Темные продолговатые швейцарские часы с боем, висевшие в проеме между двумя нашими крохотными комнатами (часы эти, как рассказывал отец, принадлежали еще его деду, он раз в месяц освобождал механизм от корпуса и смазывал кончиком гусиного пера колесики и шестеренки, макая перо в банку с бензином), оповестили, что уже восемь вечера, а отца все не было. Не появился он и в девять. Мы сидели все вместе и ждали его, почему-то уверенные, что только он может сказать нам нечто важное и значительное.
Отец заявился в начале одиннадцатого, веселый и пьяный. Таким я его прежде никогда не видел. Мать обомлела, прижав ладонь ко рту. Тетя Маня зарыдала. Отец цыкнул и заговорил с патетическим надрывом, как на трибуне, чего раньше за ним не замечалось:
– Не смей плакать, Маняша! Сегодня самый счастливый день! Тиран сгинул! Вспомни о своем муже, о нашем дорогом, несравненном Саше Виташкине – кто погубил его? Вспомни, кто погубил миллионы таких, как он, кто посадил меня в тюрьму… Он что, не знал, не ведал, что творится в стране?! Им же самим все и направлялось. А вы слезы льете… Дуры вы все, безмозглые курицы…
– Юзя, опомнись, тебя могут услышать, – заквохтала мать. – Здесь же ребенок, – решила прибегнуть к главному, по ее мнению, аргументу.
Меня словно ударили обухом по голове. Слова, произносимые отцом, были вовсе непонятными, будто звучали не на русском, и оттого не воспринимались. Дело было не в словах. Непостижимым было другое: горе, даже такое, как сегодня — оказывается, не всеобщее и не всеохватное, раз один из двух самых дорогих мне людей весел и даже выпил на радостях.
Отец возбужденно сновал по комнате, насвистывал, выкрикивал речитатив: “Режьте мое тело, пейте мою кровь!”, завел патефон, поставил пластинку – и поплыло ало-праздничное: “Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…”
Дядя Моисей вжал голову в плечи, прогнул спину, будто ожидал удара, и засеменил на свою половину. Замерев, как истуканы, с немым ужасом тетки следили за прыжками отца, схватившего меня на руки:
– Не смейте плакать! Сегодня праздник, и мы… мы будем веселиться! – кружился он со мной, не попадая в ритм музыки.
Длилось это минуты три. Мать в гневе рванула патефонную мембрану с иголкой, пластинка издала противный треск.
– Довольно! Генук! Подумай о нас, коль себя не жалеешь.
Отец пьяно растекся в нежностях, адресованных всем присутствующим, которых он очень любит, и уже почти своим, прежним голосом, чуть запинаясь, поведал, как рано утром на Казанском вокзале узнал о смерти Сталина, как приехал на работу, заперся с коммерческим директором Володей Аристом, они пили спирт, обнимались, целовались и благодарили судьбу за то, что дожили до этого исторического момента.
Угомонился он к полуночи.
…Ночью чьи-то руки осторожно извлекли меня из кровати. Я оказался в отцовской постели у окна и проснулся. Обычно отец брал меня к себе, когда я заболевал. Сейчас он, опершись спиной о большую подушку, полусидя-полулежа, в темноте, повел быстролетно-нервным шепотом, перескакивая с одного на другое, трезвея и с каждой минутой становясь серьезнее и злее в словах, рассказ о том, что происходило в стране, в которой я родился, которую любил и о которой пел тоненьким голоском на школьных утренниках: “Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…” Я мало что понимал в его рассказе, мелькали имена Кирова и его убийцы Николаева, Якира, Тухачевского, Орджоникидзе, Ежова, еще какие-то имена, незнакомые мне, он рассказал о муже тети Мани, который, оказывается, не погиб на фронте, как мне говорили, а был расстрелян, о мамином брате, тоже арестованном, попавшем в лагерь на Колыме и по сей день живущем в том краю на поселении, потом начал вспоминать свой арест и пребывание в тюрьмах.
Я немногое запомнил в те сумасшедшие часы, в моей голове образовалась форменная каша, я уловил лишь самое важное, то, что полностью ломало мои детские представления: выходит, есть два мира — один, открытый передо мной, в котором совершаются разные действия и поступки, и другой, потаенный – о нем не говорят и не пишут, его скрывают, но без него нельзя представить жизнь во всей ее полноте; люди, скрытые в этом потаенном мире, ни в чем ни перед кем не виноваты, однако их называют врагами народа, контрреволюционерами, шпионами, диверсантами, на самом же деле все это брехня, они такие же, как мы все. И то, что некоторые мои близкие принадлежат именно к этому потаенному миру, не отторгло их от меня, а напротив, сблизило меня с ними после услышанного этой ночью.
Отец закончил рассказывать и заснул. Он сильно храпел, изредка стонал и всхлипывал. С острой, сверлящей болью в голове, пытаясь вместить расхристанные мысли, подавленный ворохом невероятных, немыслимых открытий, свалившихся на меня, я побрел в школу. Я не знал тогда солженицынских слов, поскольку “В круге первом” еще не был написан, но, прочитанные позже, слова эти как нельзя лучше подходили к моему тогдашнему состоянию: “Я – стебелек, растущий в воронке, где бомбой вырвало дерево веры”.
Прав ли тогда был мой отец в проделанном без всякого умысла, а просто по причине выпитого, эксперименте, прав ли был с точки зрения педагогики: имел он на это право или нет? Стоило ли кидать меня вот так сразу, без подготовки, в бурную, порожистую реку, где и опытные пловцы захлебывались и тонули, не в силах справиться с течением? В конце концов, не опасно ли было – для него и для меня? Размышляя над этим, всякий раз прихожу к убеждению: наверное, стоило. Хотя я сам, будь на месте отца, вряд ли осмелился рассказать двенадцатилетнему сыну такое. Просто побоялся бы – вдруг начнет болтать и нас всех загребут? Отец почему-то не боялся. В нем всегда присутствовало нечто такое, что отличало от большинства известных мне тогда и после людей и чему я не могу найти строгого определения. Он был доверчив, непозволительно открыт душой, иногда поступал легкомысленно, совсем даже не по-взрослому, однако видел и чувствовал гораздо глубже других; эта самая доверчивость и непозволительная открытость, казалось, вовсе не вписывались в нормы неправедного, жестокого времени, в котором он существовал; отец должен был не раз погибнуть и наперекор всему выжил. Божья воля, или, как говорил отец, высшая сила, повелевающая судьбами?
Вспоминая тот день, я молчал, не в силах объяснять матери, почему не стал, не захотел писать об этом. Мать бы все равно меня не поняла.
Уже много позже открыл для себя щемящие стихи и без конца повторял:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Писать об этом значило начисто перечеркнуть замысел повести. Я волочил тяжелый груз памяти как каторжник ядро – для его литературного воплощения требовалась совсем иная оболочка, иная степень внутренней раскрепощенности…
Почувствовав мое состояние, мать подвела итог: “А книга хорошая, мне понравилась. Пусть будет Анфиса Ивановна, так, может, и лучше – нас ведь не любят и любить не станут”.
И тут меня прорвало. “Мать, даю честное слово – я обязательно напишу о нас обо всех, о том, что с нами со всеми произошло. Может быть, совсем скоро. Вот увидишь…”
Свое обещание я выполнил. Но увидеть и прочесть она уже не смогла…
Вот концовка повести. “… Отчего случается такое: среди ночи или в разгар дня толчком и обмиранием в груди рождается томящая, неотпускающая боль, и мы начинаем жить с ощущением ее постоянного присутствия. Она словно доносится из детства, когда мы еще способны плакать и чисто любить, когда незащищенная душа не обросла коростой и ложь воспринимается совершенно противоестественной; свившая гнездо внутри нас взрослая боль напоминает о непоправимом, об утрате по нашей вине невозвратно-дорогого, о недовершенном и несостоявшемся, она то замолкает на время, то буравит насквозь, и не унять ее доводами рассудка и самоуговорами. Мысли кружат и кружат, черные и смутные: можно ли что-то изменить и поправить вокруг, можно ли изменить и поправить нас самих, свыкшихся с земным мельтешением? А неминучая боль-древоточец продолжает жить и угрызать – наша неотвязная память, наш беспощадный прокурор”.
***
Обозначил это на бумаге и остановился в задумчивости – вступаю, кажется, на опасный, рискованный путь водителя, превысившего скорость и не замечающего преград впереди. Рассказывать, как написана вещь – не значит доказывать, что она написана хорошо. Лучшие тексты о процессе творчества написаны большей частью посредственными художниками –Умберто Эко верно подметил.
Выставлять себе оценки – тупее ничего нельзя придумать. Как сказали бы нынешние семнадцатилетние – зашквар. Таких упоротых авторов критики изничтожают. И однако автору позволительно иметь субъективное мнение о написанном. Такое мнение составилось у меня по поводу романа “До свидания, друг вечный” и повести “Телохранитель”, собранных под одной обложкой. Собственно, ради этого и оставляются заметки на полях этой книги.
КРОВЬЮ КРОВЬ НЕ УНИЧТОЖАЕТСЯ
Я вкратце уже упоминал художественное отображение истории мучительной любви Достоевского и Аполлинарии Сусловой. Впервые напечатано мое повествование было в провинциальном журнале “Дон”. Судьба оказалась к роману благосклонной – два издания отдельными книгами в 1990-м, общий тираж 400 тысяч экземпляров.
Он присутствует под одной обложкой с повестью “Телохранитель”, в основе которой – судьба сталинского охранника. Казалось, как можно соединить вроде бы совершенно разнородные литературные материалы? Оказывается, можно. Молодое издательство “ИКПА” решилось на эксперимент и не прогадало – сумасшедший тираж был распродан.
Воспроизведу аннотацию к изданию.
“В этот сборник вошли роман-хроника “До свидания, друг вечный” и повесть “Телохранитель”. Внешне, по материалу, положенному в их основу, они, казалось, несхожи. Роман впервые в нашей литературе раскрывает взаимоотношения Ф.М. Достоевского и шестидесятницы Аполлинарии Сусловой, историю их любви и разрыва. Повесть же посвящена во многом необычной судьбе сталинского охранника, сумевшего преодолеть в себе “синдром сталинизма”. Что может быть в этом общего? И однако это общее прослеживается на протяжении всего процесса чтения.
В Сусловой и ее окружении Достоевский зрением гения увидел, точнее, угадал прообразы будущих “бесов”, вершащих кровавый террор во имя и ради химер революции. В “Телохранителе” охранник Лучковский верой и правдой служит главному “Бесу”, ввергнувшему страну в массовые репрессии, уничтожившему миллионы людей. Не сразу и не все он понимает, так как он тоже дитя века, тоже сформировался в эпоху сталинизма. Тем выстраданнее его прозрение, тем сильнее ощущает он сокровенный смысл “закона сохранения вины”, к оторому подвластны все жившие в страшное время – и палачи, и жертвы.
Сочетание линий романа и повести напоминает читателю о главном: кровью кровь не уничтожается, а общественное переустройство лишь тогда приводит к желаемому результату, когда гарантирует свободу и права каждой отдельной личности”.
Что же предшествовало широкой публикации?
Роман-хроника был закончен в самом конце 70-х. Я рискнул отдать рукопись в “Новый мир”. Замечательный, лучший по тогдашним меркам советский журнал, при Твардовском стал символом свободомыслия, задавленного цензурой. Те времена прошли, нынешний “Новый мир”под руководством Сергея Наровчатова превратился в обычное советское литературное издание, державшее нос по ветру, не претендовавшее на смелость и серьезную критику происходившего в стране. И тем не менее, само имя журнала притягивало авторов.
Рукопись мою отрецензировали одобрительно, особенно приятной стала оценка Игоря Виноградова, замечательного критика, литературоведа. Ведавшая в журнале прозой Диана Тевекелян (между прочим, первый литературный редактор булгаковского “Мастера и Маргариты”) обещала напечатать. Шли месяцы, никакого прогресса не намечалось. Диана Варткесовна по-прежнему обещала…
Наконец, она призналась: руководство издания не жаждет печатать такого рода прозу, ибо это означает открыть шлюзы для потока подобных вещей, а “Новый мир” нацелен на проблемы современности, ну и пр.
Я забрал рукопись. Переживания длились недолго – я начал искать место для публикации. Так рукопись оказалась в “Доне”.
Как теперь я оцениваю роман? С одной стороны, первая попытка в литературе художественно отобразить любовную связь писателя. Два издания огромным тиражом (впрочем, в перестройку это была не невидаль – новые книги расходились моментально), с другой – червячок сомнения, переросший в неприятие сочиненного. Сегодня мой “Достоевский” мне активно не нравится, я бы переписал его с первой до последней страницы.
Роман-хроника дотошен и чрезмерно точен в фактах и деталях, что в данном случае не является плюсом – отсутствует свобода допуска, любовь героев лишена мистического начала, абсурдизма, фантасмагоричности, разноликости, неразгаданности, если угодно, инфернальности – той самой, каковой писатель наградил своих героинь, отчасти списанных с Аполлинарии. Роман слишком гладкий, заданность пронизывает его насквозь.
Если бы я писал сегодня, то в центр поставил любовный треугольник – не пошлого ничтожного красавчика Сальвадора, испанского студента, с которым Суслова изменила Федору Михайловичу, а совсем иного человека – знаменитого философа и публициста Василия Розанова, в горячке чувств женившегося на Аполлинарии и тем испортившего себе жизнь.
Один из самых оригинальных и парадоксальных русских мыслителей, гений крайностей, Розанов писал скандальные книги в духе фейсбучных постов: воспевал православный уклад и нападал на христианство, испытывал патологический интерес к вопросам пола, был повернут на евреях, изничтожал их (мерзкие статейки по поводу “Дела Бейлиса”) и одновременно восхищался ветхозаветным иудаизмом… Он признался, что бывает сам себе противен, что ему противны собственные писания. “Что-то такое противное есть в моем слоге. С противным – все не вечно. Значит, я временен? Противное это в каком-то самодовольстве. Даже иногда в самоупоении. Точно у меня масляное брюхо и я сам его намаслил. Как писал Владислав Ходасевич:
Смотрю в окно – и презираю.
Смотрю в себя – презрен я сам”.
Он был младше Сусловой на 16 лет. Та же ситуация, что у его пассии и Достоевского, только наоборот. Это он позже будет называть жену не иначе как “суслиха”, усомнится в её умственных способностях, а тогда был фатально влюблён и очарован “следами её былой красоты”. Некоторые говорили, что Розанову к тому же льстило, что его жена была музой самого Достоевского, которого он считал своим кумиром.
Полина, по его выражению, “ушибла” его с первого взгляда. “Вся в черном, без воротничков и рукавчиков со следами былой замечательной красоты.(…) Словом, вся Екатерина Медичи. Равнодушно бы она совершила преступление, убивала бы – слишком равнодушно”.
Нескрываемое восхищение юноши разбудило в Аполлинарии дремавшую чувственность, прежнюю смелость и полное равнодушие к тому, что скажут и что подумают. Она дала себе волю: сама шепнула Василию в гостях, чтобы приходил к ней ночью… Три года длился их безумный роман, пока Суслова во время недолгой отлучки Василия не написала ему в Москву грустное письмо с предложением расстаться… Розанов обмер, охнул, перехватил где-то 15 рублей на дорогу и примчался в Нижний объясняться. “Совершенная безвыходность положения, в какие-то три-четыре секунды (…) произошло измерение душ, переоценка всего прошедшего, взгляд в будущее, – и мы упали друг другу в объятия…” – так вспоминал об этом Розанов. После этой сцены они опомнились уже в церкви, обвенчанными, и вскоре переехали в Брянск, куда Розанова направили учительствовать.
Суслова в браке вытворяла вещи несусветные. Бедному Василию пришлось несладко: выносить скандальные выходки жены и постоянное унижение, да ещё и в крохотном провинциальном городе! Истерическая психопатка, взбалмошная Аполлинария устраивала публичные сцены ревности, набрасываясь с кулаками на бедную коллегу мужа по гимназии, но сама изменяла мужу с его знакомыми. Розанов стоически терпел, плакал, валялся в ногах у неверной жены, но, в конце концов, решил развестись. Он встретил другую женщину – покорную и скромную Варвару Дмитриевну, будущую мать своих детей и прекрасную супругу. Но не тут-то было: Суслова на протяжении 20 лет не давала развода, принося этим его семье многочисленные неудобства.
Тяга мужчин к ней иррациональна. Ведь кто же открыто признается, что любит типаж истеричных неверных скандалисток? Впрочем, никто не станет отрицать тягу людей к тёмным сторонам жизни, непонятному и противоположному. Что находили мужчины в Аполлинарии? Пожалуй, наиболее исчерпывающе её охарактеризовал именно бывший супруг: “С ней было трудно, но её было невозможно забыть”.
“Мы с ней “сошлись” тоже до брака… Обниматься, собственно дотрагиваться до себя – она безумно любила. Совокупления – почти не любила, семя – презирала (“грязь твоя”), детей что не имела – была очень рада”,– вспоминал Розанов.
Повидимому, как все истерические психопатки, она страдала половыми извращениями. Никого не любя, испытывая лишь неглубокую чувственность без оргазма и благодарности к партнёру, она, говоря словами дочери Достоевского, “служа Венере, переходила из рук в руки, от одного студента к другому”.
…Пишу эти строки и вижу контуры ненаписанного романа: повествование ведется от лица Розанова, видениями миража возникают сцены его кошмарного супружества, жена изменяет, мучает, издевается, Достоевский – лишь фоном. “Суслиха” вспоминает былую связь, дабы побольнее уязвить нового мужа, не щадит его смакованием подробностей: как одеяло Феденька сдирал с нее голой – “россияне не привыкли уступать”, как принуждал к соитию: “я первый у тебя и это дает мне некоторое право…”, и с особой ненавистью: как в последний год жизни Достоевского пришла к нему в шляпе с вуалью попросить совета: “мне сорок лет, выхожу замуж за человека чуть ли не вдвое моложе меня, возможен ли такой брак, будем ли мы счастливы?”, а Федя пустился в рацеи и после дотошных расспросов вывел диагноз: “наибольшее удовольствие вам доставляет мучительство, вы непременно будете тиранить несчастного, слепо влюбденного юношу, отравлять каждую его минуту”. “Но главное, он не узнал меня, не узнал!”
А что же Розанов? Он писал ей письма, полные отчаяния и бессильной злобы: “…Вы меня позорили ругательством и унижением, со всякими встречными и поперечными толковали, что я занят идиотским трудом. Низкая Вы женщина, пустая и малодушная… оглянитесь на свою прошлую жизнь, посмотрите на свой характер и поймите хоть что-нибудь в этом… Плакать Вам над собой нужно, а Вы еще имеете торжествующий вид. Жалкая вы, и ненавижу я Вас за муку свою”. А в письмах друзьям Розанов признавался: “Меня она никогда не любила и всемерно презирала, до отвращения; и только принимала от меня «ласки». Без “ласк” она не могла жить. К деньгам была равнодушна. К славе – тайно завистлива. Ума – среднего, скорее даже небольшого. Но стиль, стиль…”.
Я прошел мимо потрясающего материала, именно любовный треугольник обещал истории этой долгую жизнь, книгу бы наверняка вспоминали, цитировпали, спорили, поднимали на пьедестал и низвергали автора… Изданный же мной роман полузабыт, не сказать большего. Имя Сусловой и ее жизнь теперь хорошо известны – вот даже фильм в России вышел, где она присутствует, и что с того, что я первым попытался “художественно отобразить…” Слабое утешение для писателя…
К сожалению, новую книгу я, скорее всего, не напишу. А жаль…
Послушаем Розанова.
“Любовь подобна жажде. Она есть жаждание души тела, то есть души, коей проявлением служит тело. Любовь всегда к тому, чего «особенно недостает мне», жаждущему. Любовь есть томление; она томит; и убивает, когда не удовлетворена. Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда возрождает. Любовь есть возрождение. Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. Любовь – это всегда обмен – души-тела. Поэтому, когда нечему обмениваться, любовь погасает. И она всегда погасает по одной причине: исчерпанности матерьяла для обмена, остановки обмена, сытости взаимной, сходства-тожества когда-то любивших и разных. <…> Эта любовь, естественно умершая, никогда не возродится… Отсюда, раньше её (полного) окончания, вспыхивают измены, как последняя надежда любви: ничто так не отдаляет (творит разницу) любящих, как измена которого-нибудь. <…> Измена есть, таким образом, самоисцеление любви, “починка” любви, “заплата” на изношенное и ветхое. Очень нередко «надтреснутая» любовь разгорается от измены ещё возможным для неё пламенем, и образует сносное счастье до конца жизни. Тогда как без «измены» любовники или семья равнодушно бы отпали, отвалились, развалились; умерли окончательно”.
“Супружество как замок и дужка: если чуть-чуть не подходят – то можно только бросить. “Отпереть нельзя”, “запереть нельзя”, “сохранить имущество нельзя”. Только бросить (расторжение брака, развод). Но русские ужасно как любят оберегать имущество замками, к которым дужка только приставлена. “Вор не догадается и не тронет”. И блаженствуют”.
***
Теперь – о второй вещи, составившей многотиражный том. “Телохранитель” для меня являл исключение – замыслился моментально, писался легко и быстро, и это не была скоропись, за которую потом неловко.
Так бывает: думаешь совсем о другом, пишешь вещь, наполняемую всеми твоими эмоциями, или ничего не пишешь, расслаблен, ничем не озабочен – и вдруг наплывает странный, диковатый сюжет, вовсе не мерещившийся, не прятавшийся в тумане, а невесть откуда взявшийся, и ты вмиг мобилизуешь покуда нестойкие, разрозненные мысли, мозг твой включает зажигание и ты мчишься в неизведанную даль, где явственно проступают, как на переводных картинках, контуры задуманного.
Как правило, новые сюжеты приходили ко мне в моменты одиночества. По сему поводу часто вспоминался Ницше: “Мы не принадлежим к тем людям, которые начинают мыслить лишь в окружении книг, от соприкосновения с книгами, – мы привыкли мыслить под открытым небом, на ногах, прыгая, карабкаясь повсюду, танцуя, охотнее всего в одиноких горах или у самого моря, там, где даже тропинки становятся задумчивыми”.
Так вышло на сей раз – осенило, можно сказать, случайно, на прогулке в лесу возле казенной редакционной, давно не ремонтируемой дачки с похилившимся забором. День выдался такой, каким и должен быть в начале бабьего лета – теплый и солнечный, с отсроченным безведрием. Красота начальной сентябрьской поры ярко проявлялась в Подмосковье: прозрачный воздух отодвигал горизонт, приоткрывал дали, кроны берёз тронула первая заметная позолота, на дорожки слетали стайки жухлых хрустких листьев, к ним добавлялись сухие порыжелые сосновые и еловые иголки. Из окаймлявшего пространство леса доносился коктейль из смолистых запахов хвои и сырой гнилости веток, коры, старых трухлявых пней. Изредка в глубине выстреливало, звук отдавался эхом, казалось, кто-то ударил палкой по крепкому стволу; иногда прокатывались шорохи и шелесты – наверное, белка или бурундук порскнули вглубь. На деревья и травы ложилась тончайшая пряжа пауков-тенетников, под дуновением ветерка блестящие паутинки парили над головами нежными парашютиками… Гроздья рябины и обильные желуди на дубах предсказывали долгую дождливую осень и снежную зиму…
Бабье лето рождало соответствующее задумчиво-безмятежное настроение, ничего не тяготило, не обременяло… Каким же неведомым, загадочным образом приплыла на прогулке жгучая, знобкая идея будущей повести?! Я не мог уразуметь.
Если помните, мы уже касались сей материи: случайностей не бывает – все строго детерминировано. Очевидно, во мне незаметно присутствовали скрытая боль, осудительное начало – как реакция на поступки, за которые было стыдно. У каждого, полагаю, изрядно наберется таких поступков, но не все способны сильно из-за этого переживать, многие, не склонные к самокопанию, саморефлексии, запросто отринут их и пойдут по жизни дальше, спокойно и уверенно. Многие, но не я.
Джойс в “Улиссе” поразительно точно рисует подобное состояние психики человека. “Существуют грехи или (назовем их так, как называет их мир) дурные воспоминания, которые человек старается забыть, запрятать в самые дальние тайники души – однако, скрываясь там, они ожидают своего часа. Он может заставить память о них поблекнуть, может забросить их, как если бы их не существовало, и почти убедить себя, что их не было вовсе или, по крайней мере, что они там были совсем иными. Но одно случайное слово внезапно пробудит их, и они явятся перед ним при самых неожиданных обстоятельствах, в видении или во сне, или в минуты, когда тимпан и арфа веселят его душу, или в безмятежной прохладе серебристо-ясного вечера, иль посреди полночного пира, когда он разгорячен вином. И это видение не обрушится на него во гневе, не причинит оскорбленья, не будет мстить ему, отторгая от живущих, нет, оно предстанет в одеянии горести, в саване прошлого, безмолвным и отчужденным укором”.
Со мной произошло именно такое.
Я попытался ответить самому себе на вопрос, лишивший покоя: существует ли закон сохранения вины? Наряду с известными законами физики, есть ли такой моральный закон? Нужно ли всю жизнь каяться за содеянное? Следовало облечь идею в слова, в живую ткань повествования, и моментально, озарением, возникла ситуация, показавшаяся вполне логичной.
…Недолго прослуживший в наружной охране вождя, ныне историк, кандидат наук, приезжает на отдых в дом творчества писателей в Пицунде. Приезжает один, будучи вдовцом. В столовой натыкается взглядом на отдыхающего, внезапно будящего тяжелые воспоминания удивительным сходством с человеком, чье лицо он не забудет, сколько будет жить. Похоже, это его сын, вот только фамилию его запамятовал. Именно его отца, якобы имевшего целью застрелить из именного пистолета Берию во время первомайской демонстрации 1952 года, вылавливает в толпе демонстрантов на подходе к Красной площади молодой сотрудник госбезопасности Лучковский. И хотя тут же выясняется, что человек этот, директор московского завода, не при чем – его оклеветала по каким-то ведомым ей одной соображениям жена, – пойманный директор куда-то пропадает. Тщетно Лучковский пытается выяснить его дальнейшую судьбу. Начальство приказывает прекратить проявлять активность. Вскоре он женится на еврейке и изгоняется из органов, в которых успел разочароваться.
Такова завязка повести.
Воображение несло меня по течению, как утлое суденышко, удачно минующее водовороты. Все свободные часы, порой в ущерб основной работе, я тратил на “Телохранителя” (название родилось моментально). Лихорадочно заносил на бумагу придуманные эпизоды жизни моего героя, его беседы с новым знакомым Шаховым, с которым подружился, и внутри постепенно рождалась безобманчивая уверенность – кажется, получается.
Я предложил написанную за полгода повесть “Неделе” – приложению к “Известиям”. Издание было весьма популярным, над ним не тяготели условности и ограничения. Ответственный секретарь Станислав Сергеев прочитал и с ходу поставил в номер начальную главу. “Будем печатать всю повесть”, – заверил он.
Сергееву я обязан тем, что “Телохранитель” оказался в списке наиболее популярных в конце 80-х детективов. Книга появилась позднее на пару лет, а тогда повесть читали в “Неделе”.
(Печально было узнать, что блестящий журналист и редактор Станислав Сергеев, Стасик, как его дружески называли многие, в прошлом году ушел из жизни от коронавируса. До последних дней он писал в “Известиях”).
Многих, вполне естественно, интересовал любопытный, неизвестный им антураж, связанный со службой бодигардов Сталина. Мне казалось, метафоричны эпизоды, скажем, единственного личного, прямого контакта Лучковского с вождем, или рыбалки Берии и Хрусталева, да-да, того самого, чью фамилию Алексей Герман вынес в название своего фильма… Отдельные факты удалось добыть напрямую от бывших охранников – в перестройку у некоторых развязались языки, некоторые истории я придумал. Валом шли письма читателей. Одно пришло от жившего в Днепропетровске офицера МГБ СССР в отставке. Он возмущался ошибками автора. “Верно, в нашем подразделении служил некий Ким, у него действительно была кличка “Цыган”, но фамилия не Красноперов, как у Гая, а совсем другая…” Я порадовался за себя – надо же, попал в точку, выдумав такого Кима…
Другой характерный отрывок из повести, вызвавший немало откликов.
Ранним утром на кавказской даче начальник сталинской охраны генерал Носик, выйдя к воротам, просит молоденького сотрудника Лучковского принести ему забытую пачку папирос “Герцеговина Флор”. “Гордый доверием, Сергей полутрусцой направился к даче, миновал скамейки с росшими рядышком тоненькими березками и, обойдя дом, приблизился к входу во флигель, где жил Носик. И тут его окликнули. Метрах в двух от него стоял Хозяин. Сощурившись. он изучающе смотрел на Сергея, словно оценивая смысл его появления здесь в неурочный час. Маленький, с рябинами на усталом бледном без следа загара лице, паутинкой морщинок у глаз и серыми, точно присыпанными пеплом, усами, он смотрел на Сергея снизу вверх, и тот вдруг устыдился своего большого ладного мускулистого тела. Он не знал, что Хозяин всегда прищуривался, когда смотрел на кого-либо, будто брал на мушку, но сейчас ему стало не по себе, и чем дольше ощущал этот взгляд, тем сильнее что-то внутри сковывало его.
Хозяин раздельно произнес несколько слов и замолчал. Сергей коротко кивнул в знак того, что принял к исполнению приказание, отдал честь, повернулся и бегом бросился назад.
В нескольких метрах от ворот он замедлил бег, перешел на шаг и только тут ощутил, что не воспринял ни единого слова, произнесенного Хозяином, а уж тем более их смысла. Слова эти пошли сквозь него, как рентгеновские лучи, не оставив ни единого следа. Сергея обуял ужас. С трудом переставляя вмиг одеревеневшие ноги в сапогах, он приплелся к Носику и тупо уставился.
– Принес? – спросил тот. – Давай, чего стоишь, как истукан?
Сергей пытался выдавить из себя какие-то звуки.
– Мычишь, как телок… Где папиросы?
– То… Това… Товарищ генерал, – с трудом разлепил сухие губы Сергей. – Меня… Мне приказал товарищ Сталин, а что, не могу… не могу вспомнить…
– Как не можешь? – удивился Носик.
Сергей опустил голову.
– Малахольный ты, что ли? – произнес Носик и дернул плечами. – О чем хоть он говорил с тобой?
Сергея била противная мелкая дрожь.
– Ну, хлопец, с тобой не соскучишься. Ты чем, болван, слушал, ухом или брюхом, когда к тебе вождь обратился?! – генерал начинал терять терпение и перешел на фальцет. Внезапно смолк, поджал губы, наморщил лоб и задумчиво стал глядеть куда-то поверх Сергея. – Так, ладно, пойдешь на кухню, попросишь стакан холодного мацони и поднесешь товарищу Сталину на подносе. Уразумел? Выполняй!
…Остальное прошло перед Сергеем, как в тумане. И то, как повар наливал мацони, и то, как Сергей нес стакан на подносе, боясь расплескать, и то, как подал поднос Хозяину. Вот только взгляд Хозяина во всю жизнь потом не мог забыть, взгляд, менявший оттенки: недоуменный, ошеломленный, разгневанный и вконец растерянный. О чем думал семидесятилетний всесильный человек, не допускавший и мысли, что его распоряжение можно не выполнить или выполнить не так, вовсе тем ранним утром не хотевший мацони и вынужденный отпить из стакана?..
Спустя годы, придирчиво и беспощадно оценивая и переосмысливая прежнюю свою жизнь, Лучковский пришел к твердому убеждению: в тот миг к Сталину наверняка прихлынули горькие, безотрадные мысли о наступившей старости, глубоком склерозе, отшибающем некогда безотказную память, и тому подобных неизбежных вещах, которые, как еще недавно казалось, должны его миновать и вот нежданно-негаданно проявились неумолимыми законами природы, не жалующими и не щадящими ни простых смертных, ни вождей. Потому-то и глядел он на Сергея растерянно и жалко, не ведая, какой всепоглощающий страх сковал и оледенил державшего поднос ”.
Да, антураж мог заслонить главную идею “Телохранителя”. Но только не для тех, кто не ищет в литературе “развлекуху” Напряжение нагнеталось с каждой страницей, и читатель с нетерпением ждал развязку. В тамбуре поезда, несущего их домой, в Москву, Лучковский открывается Шахову, рассказывает об эпизоде на Красной площади. Изумленный новый приятель, в свою очередь, говорит, что он не сын директора завода – его репрессированный отец погиб в лагере под Воркутой, посмертно реабилитирован., воспитывал его отчим-художник, жив по сей день…
“Это же прекрасно, что я ошибся! – лилось изнутри Сергея Степановича. Ему оставалось лишь объяснить, раскрыть, сколь мучился он тягостными воспоминаниями, как покинул “органы”, избыл мрачную полосу жизни, и он заговорил сбивчиво и горячо, желая и надеясь быть понятым до конца.
…Он очень устал и мигом заснул. Очнулся от скрежета открываемой двери, приоткрыл глаза и увидел, что уже по-утреннему развиднелось. Зевнув, сел на полке, свесив ноги.
– Курск проехали, – объяснила причесывавшаяся внизу женщина. – А ваш приятель ночью сошел…
– Как сошел? – не поверил.
– Да, ночью. Вроде в Харькове стояли. Я проснулась, он шебаршится, чемодан и сумку берет и в дверь. Вы в Москву вместе ехали, чего это он?..
Лучковский мигом соскочил с полки, гонимый предчувствием, и на столе обнаружил листок бумаги. Развернул и увидел свои телефоны – рабочий и домашний. Ниже шла приписка: “Возвращаю за ненадобностью”.
Не простил Шахов новому приятелю его прошлого. Для него, жесткого и категоричного, все, имевшие отношение, прямые или косвенные, к сталинским “органам”, были достойны презрения.
Так, значит, закон сохранения вины существует и Лучковский не зря угнетает себя воспоминаниями? Я оставил ответ на усмотрение читателей. Некоторые, полагаю, согласятся с Шаховым, некоторые поспорят или попросту отвергнут такой подход. Память, по их мнению, не должна постоянно колоть и укорять, саднить и мучить, это саморазрушительно для личности. Может, они и правы, кто знает…
После публикации в “Неделе” возникла идея снять по повести художественный фильм. Продюсировать собрался известный в мире кино Юрий Кара. В его компании прикинули, во что обойдутся съемки (одна сцена демонстрации на Красной площади тянула на миллион) и отказались от проекта. Ну и к лучшему – уроженец Донецка, Кара стал доверенным лицом Путина на президентских выборах, одобрил аннексию Крыма и захват Донбасса. Если бы проект состоялся, я бы стеснялся такого “творческого союза”.
“Телохранитель” был выпущен в 2014 году в виде аудиокниги. Тест замечательно читает Владимир Сушков. Аудиозапись составляет 5 часов 41 минуту.
***
Напоследок одно воспоминание.
В начале марта 1990-го мой добрый знакомый Сережа Смоляницкий пригласил меня в издательство для получения гонорара за “Достоевского”. Сережа работал в “ИКПА” – совместном советско-финском предприятии, выпускавшем книги. Он был правой рукой владельца СП Лернера.
С отцом Сережи – писателем и журналистом, участником войны Соломоном Владимировичем Смоляницким я работал в “Вечерке”, он заведовал отделом культуры. Мы были в хороших отношениях. Он и познакомил с сыном. В известной степени благодаря Сереже издательство приняло и выпустило рукопись моего романа-хроники ранней весной 1990-го. И вот пришла желанная пора получения денег за писательский труд.
…Меня позвали в кабинет руководителя. Я предстал пред очи Григория Львовича Лернера. Сравнительно молодой человек, лет где-то под сорок, выглядел вполне импозантно: добротный импортный костюм цвета маренго, голубая рубашка, галстук в тон. Лицо крупной лепки, чуть волнистые, красиво подстриженные волосы. В общем, располагающая внешность, если бы не темные, слегка навыкате, глаза. Таких глаз я прежде ни у кого не видел. Они вобрали меня целиком, погрузили на дно зрачков – провалов в пустоту, я почувствовал себя маленьким и беззащитным. Взгляд не выражал подозрительности или неприятия, не был высокомерным или заносчивым – он просто вселял беспокойство и тревогу. Опасные глаза, – непроизвольно отметил я и момонтально поправил себя: нет, скорее преступные…
Лернер молча открыл сейф и начал его опустошать, выкидывая на стол пачки купюр в банковской упаковке – 25 и 10-рублевые. Он кидал их так, как яблоки в корзину или брикеты торфа на землю – с непонятным мне безразличием и скукой, будто выполнял постылую, надоедливую работу. Складывалось ощущение, что хочет побыстрее избавиться от них.
Я догадывался: это не последние деньги – зарабатывал Лернер не на издании книг, вернее, не только и не столько на этом; очевидно, есть и другие, более мощные источники благополучия. Но безразличие и некое пренебрежение к процедуре расплаты с писателем меня слегка коробили – я привык относиться к деньгам иначе…
А Лернер кидал и кидал пачки, казалось, не считая их количества.
Наконец, Григорий Львович остановился.
– Думаю, этого достаточно, – и выдохнул едва не с облегчением, будто завершил тяжелый, неблагодарный труд.
Я поблагодарил и с трудом упаковал купюры в портфель. Мы попрощались, пожав друг другу руки.
Дома я пересчитал пачки – выяснилось, что Лернер заплатил мне более 100 тысяч рублей. Автомобиль “Волга” стоил 9 тысяч. О таком баснословном гонораре можно было только мечтать.
Через несколько месяцев процедура выплаты повторилась, только нас уже быдо двое – я и мой соавтор Владимир Снегирев. Мы получили от Лернера за вышедшую в “ИКПА” книгу “Вторжение” (о закончившейся войне в Афганистане) по 125 тысяч каждый.
Больше Лернера я никогда не видел. Вскоре он репатриировался в Израиль…
Фигура эта меня нисколько не интересовала, однако посредством интернета сведения о нем изредка доходили, и я всякий раз поражался своей интуиции – глаза Григория Львовича и впрямь оказались преступными. Он превратился в мошенника и проходимца международного масштаба, не миновавшего одиночной камеры израильской тюрьмы.
Готовя эту книгу, я обратился к источникам в Сети и вот что выяснилось. Мошенником Лернер стал еще в юные годы. Знал, как ковать деньги. Гриша организовывал студенческие стройотряды, в процессе чего занимался финансовыми
махинациями, за что был осуждён на 11 лет лишения свободы. Повторный суд сократил срок до 5 лет, последний год из которых провёл на “химии” (колония-поселение).
Во время перестройки занялся частным бизнесом. Сблизился с главарями ореховской мафии. Создал первый российский промышленный банк.
В 1990 году уехал в Израиль, взял себе имя Цви Бен-Ари и поселился в Ашкелоне. Задержан в Швейцарии по требованию российской прокуратуры в 1991 году, выслан в Россию, но затем освобождён под залог и вернулся в Израиль. Россия требовала его экстрадиции, но в конечном итоге он был помилован. Задержан в Израиле 12 мая 1997 года по обвинению в крупных хищениях денег у трёх российских банков и осуждён на 6 лет лишения свободы и к штрафу. После освобождения вернулся в бизнес, открыв компании по нефтегазовым сделкам. В 2006 году был заново обвинён в финансовых хищениях израильской прокуратурой и арестован в Парагвае, куда сбежал, присвоив деньги вкладчиков. Оттуда был экстрадирован в Израиль.
11 июля 2006 года приговорён к лишению свободы на 6 лет, а также дополнительному сроку за нарушение режима отбывания условного наказания на 27 месяцев. В июле 2010 года получил ещё один, десятилетний срок за создание финансовой пирамиды.
Такая вот биография…
20 октября 2021-го Лернеру исполнилось 70 лет. Не уверен, что он отметил юбилей на свободе. Впрочем, точных сведений у меня нет.
Более всего расстроило участие в темных делах Лернера моего доброго знакомого Сережи Смоляницкого. По сообщениям прессы, они обманом убедили двоих русскоязычных израильских бизнесменов вложить более миллиона долларов в фальсифицированные сделки по импорту газа из России.
Деньги, перечисленные бизнесменами, Лернер присвоил. Когда обман вскрылся, его задержали. Он признал себя виновным и заключил судебную сделку. По соглашению с обвинением обязался полностью возместить ущерб пострадавшим. Вместо этого Гриша и Сережа по поддельным паспортам бежали из Израиля в Парагвай. В первый же день пребывания здесь были задержаны в одном из отелей за пьяный дебош. У них в номере полицейские нашли наличными свыше миллиона евро и 118 тыс. долларов. Парагвайские власти экстрадировали Лернера и Смоляницкого в Израиль.
Смоляницкий заключил с обвинением сделку и стал на суде главным свидетелем, рассказав о созданных им по указанию Лернера разветвленных сетей фирм, через которые осуществлялась мошенническая деятельность.
Он отделался сравнительно мягким наказанием и, по некоторым данным, вернулся в Москву. Лернер же получил суровый приговор.
Излагая эти факты, я испытываю сложное чувство. Понятно, ни малейшей симпатии аферист и жулик Лернер, облапошивший стольких людей, вызывать не может. Однако не встреться Смоляницкий и Лернер на моем пути на рубеже 90-х, неизвестно, сколь скоро увидели бы свет “Достоевский”, “Телохранитель” и документальное исследование “Вторжение”. Издания были осуществлены быстро и смело (особенно “афганская” книга), за что я весьма признателен. А уж как потом сложилась жизнь Гриши и Сережи, так к литературе это никакого отношения не имеет.
“ДЕСЯТЫЙ КРУГ”
Эта книга стоит особняком среди написанных еще до эмиграции, в короткий период свободы слова.
Известный писатель, культуролог Евсей Цейтлин начинает нашу с ним беседу с вопроса о “Десятом круге” (жизнь, борьба и гибель Минского гетто): “Как вы обратились к этому материалу, который наверняка перевернул, во многом изменил вашу жизнь”?
Вопрос попал в яблочко. “Абсолютно точно – перевернул и во многом изменил. Я написал повесть за 37 (!) дней, совмещая с работой в газете. Дольше не смог бы писать физически и психологически: изнемогал под действием ночных кошмаров, почти каждую ночь меня расстреливали, закапывали живым в яму, я прятался в “малинах”, убегал от полицаев… Выдержать такой стресс было непросто”.
Итак, “Десятый круг”, история крупнейшего гетто на оккупированной территории СССР. Еврейская тема, столь трагически прозвучавшая. Я предложил рукопись журналу “Знамя” – в перестройку, наверное, самому читаемому в стране. Главный редактор Григорий Бакланов, писатель-фронтовик, одобрил текст. И… публикация стала переноситься из номера в номер. Мне была хорошо знакома метода тянуть с выходом в свет, пока раздосадованный автор сам не заберет рукопись. Однако в данном случае ситуация была иной:
Бакланову-еврею хотелось напечатать повесть о гетто, но… что-то смущало, в его душе происходили неведомые никому борения…
Реальность научила меня литературной хитрости (в жизни я не такой, памятуя армянскую поговорку: хитрость – ум дураков). Я передал по редакционным “инстанциям” , что договорился с “Новым миром” и там дают повести зеленый свет. Естественно, блефовал. Бакланов, узнав новость, распорядился “ставить в номер”. И в декабре 1988-го “Десятый круг” был напечатан в “Знамени”.
Сбор материалов, поездки в Минск, поиск бывших узников, чудом выживших, встречи и переписка с ними заняли около двух лет. Довелось стать в значительной степени первооткрывателем: многое содержащееся в книге, увидевшей свет в издательстве “Советский писатель” в конце января 1991-го, стало известно впервые.
Впрочем, у меня был предшественник. Сразу после войны Герш Смоляр, один из создателей подполья в Минском гетто, написал по горячим следам свои воспоминания. “Десятый круг” отделен от воспоминаний Смоляра более чем сорока годами. Дистанция времени пошла на пользу – в книге немало открытий и откровений… Впрочем, заслуга в этом не только автора – об этом дальше.
Каждая история выживания – удивительная, невероятная, за гранью человеческих сил и возможностей, порой кажущаяся неправдоподобной, но абсолютно реальная. Взять хотя бы историю спасения последних обитателей гетто, девять месяцев прятавшихся в сооруженном ими подземелье, не видевших белого света, хоронивших близких рядом со своими нарами, питавшихся тем, что удалось забрать с собой в схрон, и голодавших последние недели перед освобождением советскими войсками… Выжили 13 человек, один из них, найденный мной, рассказал о всех перипетиях…
Дантов ад бледнеет перед существованием в гетто. Отсюда и название повести – “Десятый круг”. В аду кругов девять…
Но в повести – и борьба, мужество подпольщиков, бежавших из гетто и пополнивших ряды сражавшихся в лесах; боевые действия и суровый быт нескольких еврейских партизанских отрядов… Не все добрались до партизан, многих “народные мстители” расстреляли по пути их следования. И это еще одна трагическая страница истории гетто.
Самая, наверное, страшная глава – о детях.
“Есть боль недуга. Есть боль грусти, тоски. Есть боль любви, сладчайшая и горчайшая. Есть боль, горя, отчаяния, утраты, разлуки. Есть боль неминучая и проходящая. А есть боль з а п р е д е л ь н а я.
Я не могу писать о том, как в “малине” задушили начавшего пищать девятимесячного ребенка – плач мог навести немцев. У ребенка не было имени – при рождении его никак не нарекли.
Я не могу писать о том, как шестилетний Яша вылез из-под груды облитых бензином горящих трупов (среди них и его родители) и, закоченев, обогревался у этого огня.
Я не могу писать о том, как сидели в крохотном скрыте двадцать человек, спасаясь от четырехдневного июльского погрома сорок второго, сидели в духоте и спертости, без еды и без воды, и как изнемогшие дети пили мочу. В эти четыре дня у четырехлетнего Феликса Липского появились седые волосы.
Я не могу писать об этом, а пишу…”
Своего рода рентгеновский снимок больного, измученного тела гетто высвечивал самое нутро, здесь невероятно важно было все, любые детали, мелочи быта, но самое главное в моем понимании – проявление человеческого в немыслимых условиях существования.
…В одну из поездок в Минск я узнал, что в Институте истории Академии наук Белоруссии существовала группа сотрудников, изучавших историю гетто. Возглавляла группу Анна Павловна Купреева. Удалось собрать обширные материалы, но до обнародования дело не дошло – на папки с рассказами узников, фотографиями, топографическими схемами был наложен гриф “Совершенно секретно”. Так в республике сознательно прятали память о ста тысячах погибших, одновременно борясь с “сионистским влиянием”.
Я нашел домашний телефон Купреевой и позвонил ей. Анна Павловна хворала, встретиться не получилось. Она подтвердила существование засекреченных папок – итог 15-летний изысканий и выразила большое сомнение, что мне их покажут. Но все-таки на дворе был уже 1987-й, про гласность и открытость прожужжали уши, и я надеялся сыграть на этом.
В Москве я запасся, на всякий случай, письмами с просьбой оказывать содействие журналисту и писателю, то есть мне, в сборе материалов по теме, связанной с неизвестными страницами войны. В письмах ни слова не было сказано о Холокосте, гетто, отсутствовало само упоминание евреев. Придя утром в Институт истории, я представился секретарше директора и попросил сообщить ему о моем визите. Секретарша ответила – директор сегодня отсутствует, вам надо обратиться к ученому секретарю. В ту минуту я не понимал, как мне повезло.
Ученый секретарь оказался молодым светловолосым человеком, одетым в дешевый костюм, очевидно, местного производства, и пугливыми глазами. Он ознакомился с письмами от Союза писателей и журнала “Знамя”, те произвели на него впечатление и он спросил, чем может помочь. Я назвал цель прихода и демагогически сделал упор на набирающем ход процессе гласности. Против ожидания, ученый секретарь не стал возражать или делать вид, что принятие решений не в его компетенции ввиду отсутствия директора, а сразу разрешил посетить архив и ознакомиться с теми самыми папками. Проводил меня в нужное помещение и распорядился “оказать помощь московскому писателю”. В комнате работали три женщины, они согласно кивнули.
…И вот они передо мной, заветные красные папки с грифом в верхнем правом углу “Сов. секретно”. Их пять. Вооружась ручкой и бумагой, я приступил к чтению и записям.
Передо мной открывались плоды заинтересованной, кропотливой, скрупулезной работы нескольких историков, ведомых Купреевой. Некоторые имена узников гетто мне уже были знакомы, их воспоминания легли в мои блокноты и на магнитную ленту, другие имена выглядели новыми, они ушли из жизни, но группа Анны Павловны успела встретиться с ними. Собранные фотографии и топографические схемы давали четкое представление о районе гетто, давались описание улиц, домов… Словом, это был бесценный материал, лежавший под спудом…
Время медленно влеклось, в вечерние окна заглядывал кислый зимний сумрак, а я не освоил содержание и трех папок. Из сотрудниц архива осталась одна, видимо, старшая, деликатно дожидавшаяся, когда столичный гость завершит работу. Поймав мой беспомощный взгляд, она тихо произнесла: “Знаете что? Возьмите с собой оставшиеся папки, положите в портфель. Завтра утром в половине девятого я буду вас ждать у входа в Главпочтамт на Ленинском проспекте. Вы в какой гостинице остановились? В “Минске?” Почта рядом. Только не подведите – иначе меня уволят…”
Так мне повезло второй раз за день.
Ночь напролет я делал выписки. Не спал ни часа. Тем не менее, до содержимого пятой папки я так и не добрался. Утром в означенную половину девятого передал завернутые в непрозрачный пакет папки моему ангелу-спасителю. За давностью лет имя женщины испарилось из памяти. Кажется, Валентина. Поблагодарил и, не удержавшись, неловко поцеловал в висок.
Вскоре я переступил порог приемной директора института. Все-таки решил отвоевать еще один день, дабы без спешки и суеты еще раз просмотреть “секретные” сведения. Не тут-то было. Директор принял меня настороженно, узнав, что вчера я работал в архиве, насупился и сквозь зубы: “С тем, кто вам разрешил, мы разберемся. Документы секретные, – повторил несколько раз как мантру, – без разрешения ЦК и КГБ допуск к ним невозможен…”
Запахло керосином. Я ретировался и помчался в гостиницу. Собрал исписанные листы и засунул на голое тело под рубашку, сверху надев свитер. Я не сомневался: директор позвонит в местную Лубянку, откуда вполне можно ждать “гостей” с негласным обыском. Возможно, я перестраховывался, однако предосторожность никогда не бывает лишней.
…Потом я не раз вспоминал Анну Павловну Купрееву добрым словом. Узнал подробности ее жизни (скончалась она в 1993-м) и многое понял в ее характере.
Дочь одного из руководителей подполья в гетто Светлана Гебелева писала о Купреевой: “В 1938 году ее отца и других руководителей Полесской области арестовали и расстреляли в одну ночь. В апреле 1957 года Аню, ее сестру Лену, брата Володю и маму Татьяну Ивановну пригласили в КГБ. Сообщили, что их муж и отец реабилитирован, что он ни в чем не виноват. Вдове и детям принесли извинения. Но Аня, Лена, Володя еще долго жили с ярлыком “дети врага народа”. Все это приносило им немало душевных страданий, как и в те минувшие годы, когда Татьяна Ивановна с тремя детьми на руках оказалась выброшенной на улицу и едва могла свести концы с концами. В эвакуации под Саратовом они пропали бы, если бы случайно не нашли земляка, очень порядочного человека Павла Алексеевича Долгого. Он сделал им вызов в город Муром. Сначала они работали здесь на военно-овощной базе. Грузили эшелоны для фронта. А когда Татьяна Ивановна устроилась сторожем в школе, Аня по вечерам стала прибегать на занятия.
Она была способной ученицей, и директор школы посоветовал ей учиться дальше. Окончила педкурсы при Муромском учительском институте. Потом этот же институт. Аня училась на двух факультетах сразу – историческом и педагогическом.
В Белоруссию смогли вернуться только через несколько лет после войны. Анну Павловну направили работать завучем спецдетдома, где находились дети из Озаричского лагеря смерти. Спустя некоторое время ее перевели в Минск. Она работала в детприемнике МВД. Заочно училась в Белорусском госудрственном университете.
Окончив университет, Анна Павловна Купреева (фамилия по мужу) поступила в аспирантуру. И здесь обнаружилось, что она “дочь врага народа”. Ей не давали ни темы диссертации, ни возможности сдать кандидатский минимум. Только после вмешательства высоких инстанций удалось защитить диссертацию и сдать экстерном все предметы. Кандидат исторических наук доцент Купреева с 1957 года была сотрудником Института истории Академии наук БССР, много работала над монографиями о развитии народного хозяйства Белоруссии, о подпольном и партизанском движении. Написала несколько книг и брошюр, изданных в республиканских издательствах.
Но главной темой ее жизни стала история Минского гетто, над которой она работала более 15 лет, до последнего дыхания”.
***
Начало 91-го обернулось для москвичей полупустыми прилавками. Еда стремительно исчезала. В провинции дела обстояли еще хуже. Перестроечная жизнь менялась на глазах, в воздухе висела тревога, люди вновь ожидали перемен, на сей раз скверных. Горбачеву переставали верить.
В первых числах января началась южноосетинская война: в Цхинвали ввели части грузинской милиции. В городе вспыхнули бои с применением гранатомётов. Части МВД Грузии были выведены из столицы Южной Осетии 26 января.
Союз начинал разваливаться. В Литве был создан “Комитет национального спасения”, провозгласивший себя единственной законной властью в республике. В Таллине Председатель ВС РСФСР Борис Ельцин подписал договор об основах межгосударственных отношений РСФСР и прибалтийских республик, в котором стороны признавали друг друга суверенными государствами
13 января в час ночи отряд спецназа и бойцы “Альфы“ взяли штурмом телецентр в
Вильнюсе. Население оказало массовое противодействие захвату. В результате операции погибло 15 человек
20 января в Риге произошла перестрелка с участием рижского ОМОНа у МВД Латвийской Республики. Убито 4 человека.
Состоялась крупная демонстрация в Москве в знак протеста против событий в Вильнюсе. Я был на ней. Более 100 тысяч участников (по другим данным – от 200 до 300 тысяч человек) требовали отставки президента СССР Михаила Горбачёва, а также выступали против применения военной силы советской армией в отношении Литвы.
25 января обнародован указ о совместном патрулировании в крупных городах МВД и армии.
В интервью Центральному телевидению Ельцин заявил, что отмежевывается от политики Горбачева и требует его отставки.
Обстановка накалялась…
У меня разыгрался острый гастрит. Таблетки не помогали – требовалась строгая диета, соблюдать которую при дефиците продуктов оказывалось невозможно.
Единственно светлым пятнышком на серо-безрадостном фоне было сообщение издательства “Советский писатель” – стотысячный тираж “гетто” почти готов. Печатает книгу тульская типография. Редакторша Валерия Бузылева доверила секрет: моя книга – последняя для “Совписа” в качестве государственного издательства. “Нас ждет акционирование и прочая маета…”
Я предвкушал отрадный момент, когда смогу взять в руки книгу в мягком переплете, вобравшую, кроме “гетто”, повесть “Телохранитель”. Нетерпеливое ожидание подталкивалось важным обстоятельством: в феврале предстоит поездка в Израиль на Конгресс русской прессы, и пользуясь возможностью, я смогу увидеть Герша Смоляра и подарить “Десятый круг” с отповедью его клеветникам. Легендарная личность, один из руководителей подполья в Минском гетто, живет в Тель-Авиве. Удалось найти его телефон, я позвонил, ответила женщина, назвавшаяся помощницей по хозяйству, и передала трубку хозяину квартиры. Голос Смоляра слегка вибрировал, дребезжал, произносил слова он с задержкой, придыханием, чувствовалось – это речь старого, больного человека.
Самое для меня главное – он знал о моей книге, читал в “Знамени” журнальный вариант. “Дорогой Герш Давидович, я смог ответить негодяям, обвиняющим вас в чудовищных вещах…,” – вставил в разговор. – “Очень хочу прочесть, – ответил он. – Приезжайте поскорее…”
В самом конце января поступила информация – тираж готов, я могу получить положенные по договору десять бесплатных экземпляров. Но для этого требуется поехать в Тулу – в Москву книги поступят не раньше середины следующего месяца. Ждать я не мог.
…Электричка уходила с Курского вокзала на рассвете. В Тулу я прибыл через три с небольшим часа. Гастрит давал о себе знать – с трудом проглотил бутерброд, запив водой. Глотая горькую слюну, я вошел в помещение типографии на проспекте Ленина (где же еще может находиться объект областного значения!).
…Вот она, долгожданная книга в мягкой бумажной обложке: на черном фоне графически исполненный пугающий лик – то ли живого исстрадавшегося человека, то ли скелета с пустыми глазницами. Листаю тонкие страницы плотности газетной бумаги, ни белизны, ни полиграфического изыска, и замечаю – после многих предложений отсутствуют точки. Типографский корректор, видимо, не читал. Последняя по счету книга писательского издательства, уходящего, быть может, в небытие – можно особо не напрягаться… Я не сильно расстроен – ничего удивительного по нынешним временам, главное – книга есть, живая, еще издает тепло печатной машины.
Описывать работу Конгресса не входит в мою задачу. Было интересно, встретился с коллегами, живущими в Израиле и на Западе, примерил их жизнь на свою, хотя в тот момент не думал эмигрировать. Однако не могу не отметить: гастрит свой я поборол изумительной едой в иерусалимском отеле King David, где жили журналисты. “Шведские столы” потрясали обилием и качеством пищи. Повинуясь требованиям желудка, я как сумасшедший потреблял все подряд в немыслимых количествах, забыв незыблемое правило: не путать мясное с молочным. Я путал…
Через неделю я забыл о гастрите…
Конгресс закончился, я переехал в Тель-Авив и остановился у приятеля-бизнесмена, репатриировавшегося из Москвы три года назад. Было очень холодно, обогреватель не спасал, приходилось спать в тренировочном костюме.
И вот, наконец, я в маленькой квартире Смоляра на окраине города. Дарю два экземпляра “Десятого круга”. Старик нежно оглаживает обложку, словно живое трепетное существо. Ему под девяносто, подслеповат, с трудом передвигается. Мы выпиваем по рюмке водки, закусываем скромной кошерной едой, приготовленной помощницей по хозяйству, Герш Давидович просит прочитать вслух написанное о нем в книге – из-за слабого зрения самому нелегко осилить мелкий шрифт. По мере чтения глаза его начинают слезиться…
Что я знаю о нем… Рожденный в польском местечке, на волне революционных событий в России мальчишкой примкнул к рабочему движению. В 1918 году организовал левую группу сионистов, которую назвал Союзом социалистической молодежи. В Польше устанавливается авторитарный режим. Герш бежит на Украину, оказывается в Киеве, приобретает известность как профессиональный еврейский литератор. Сотрудничает с несколькими изданиями, вместе с Эммануилом Казакевичем участвует в создании литературной группы “Бой-кланг” (“Гул стройки”). Переехав в Москву и изучая политические науки и литературу в Коммунистическом университете, становится членом редколлегий московских еврейских журналов.
В 1925-м вступил в ВКП(б). С 1928-го – на нелегальной работе в Польше. Проходит совсем немного времени, и он становится секретарем Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ). Работает в Варшаве, Белостоке, Лодзи, Вильно. Его неоднократно арестовывают. Несколько тюремных отсидок, в том числе четыре года – в одиночной камере.
После нападения Германии на СССР Герш Смоляр оказывается в оккупированном Минске. Буквально в первые же дни оккупации в городе возникает антифашистское подполье. Минское подполье было создано по личной инициативе группы патриотов, и, вопреки официальному мнению, без какого-либо руководства со стороны партийных органов. Им было не до гого, они спасали свои шкуры. В панике бежали из республики главный партийный начальник Пономаренко и его окружение.
Вот что позднее писал об этом сам Смоляр: “Многочисленное население города и, прежде всего, восемьдесят тысяч евреев были оставлены на “милость” врага. Паника среди партийного руководства была так велика, что оно даже не успело назначить нескольких человек, которые должны были остаться в области для организации движения сопротивления”.
После возникновения гетто центр подполья перебирается туда, и именно здесь скрываются и нееврейские его участники: в гетто немцы подпольщиков пока не ищут. Герш Смоляр – один из организаторов подполья. Вот когда пригодился его опыт конспирации! А еще пригодился и опыт литератора: при его непосредственном участии печатались листовки и создавалась первая в городе подпольная типография.Он – фактический лидер боевой организации Минского гетто. Координировал “десятки”, на которые были разбиты все участники сопротивления. Сам он, используя свой опыт агентурной работы, находился на нелегальном положении с документами на имя Ефима Столяревича. Он же руководил отправкой людей в партизанские отряды.
Подполье ставило своей целью вывод из города максимального числа узников гетто.
В неимоверно тяжелых условиях подпольщики добывали оружие. В разобранном виде, отдельными деталями они выносили его из немецких оружейных мастерских, в которые немцы возили их на работы из гетто. Одной из причин, сдерживающих вывод людей в лес, было условие, при котором в отряды принимали только тех, кто имел при себе оружие. Уже тогда было ясно, что это – откровенно дискриминационное условие. Преступно было предъявлять еврейскому населению те же требования, что и нееврейскому, которое пользовалось пусть ограниченной, но все же свободой передвижения. Найти брошенное оружие в лесах или на полях бывших боев нелегко, но возможно. Найти же оружие в городе, да еще находясь за колючей проволокой, было практически невозможно. Такова была реальность…
Так же целеустремленно собирались медикаменты, медицинское оборудование, перевязочные материалы. Все это затем переправлялось в лес.
Бывшие узники Минского гетто составили ядро шести партизанских отрядов: Г.Смоляр стал инициатором создания семейного еврейского партизанского отряда (N106, командир Шолом Зорин), в котором насчитывалось около 600 человек. Отряд стал базой, снабжавшей другие отряды нужными специалистами: врачами, оружейными мастерами, печатниками для подпольных типографий.
Уйдя в лес, Смоляр стал комиссаром одного из партизанских отрядов, действовавших в Налибокской пуще.
Эти отряды становились, по сути, единственным прибежищем узниклов гетто. Однако далеко не все беглецы находили приют у партизан. Многих в отряды не принимали, многих расстреливали по дороге в лес. Расстреливали “народные мстители”, следуя указаниям “Большой земли”. Беглый 1-й секретарь ЦК КП (б) Белоруссии Пономаренко сохранил свою должность в годы войны. Будучи в особой милости у Сталина, он возглавил Центральный штаб партизанского движения. Именно он в начале ноября 1942-го отправил зловещую радиограмму командирам партизанских формирований, ставшую для них руководством к действию. Я обнаружил ее текст и привел в книге. Вот ее главная часть. “Немецкой разведкой в Минске организован подставной центр партизанского движения с целью: выявления партизанских отрядов, засылки в них от имени этого центра предателей, провокационных директив и ликвидации партизанских отрядов… Для того, чтобы не допустить проникновения в отряды вражеской агентуры, партизанским отрядам с представителями каких бы то ни было организаций Минска в связи не вступать и сведений о дислокации, количественном составе, вооружении и деятельности отрядов не давать. Представителей центра, которые появляются в отрядах, проверять, тех, кто вызывает подозрения, задерживать…”
Многие командиры по-своему “расшифровали” скрытый, но довольно явный смысл приказа Пономаренко и приступили к его реализации. Надо ли удивляться, что далеко не все беженцы из гетто смогли оказаться в лесных отрядах, а значительная часть из них погибла по дороге вовсе не от рук гитлеровских карателей?..
В 1987 году издательство “Беларусь” выпустило книгу под названием “Дары данайцев”. Это было совершенно обычное для тех лет издание – сборник статей о “коварных происках идеологических диверсантов – наймитов ЦРУ”. Минск в те дни был известен как активный проводник идеологического антисемитизма во всем Советском Союзе. Набирала ход горбачевская перестройка, но в Белоруссии ее как бы не замечали, следуя советским стереотипам. “Дары данайцев”имели самое прямое отношение к Гершу Смоляру.
“Давний провокатор”, “неотроцкист и сионист”, “сионистский оборотень”, “матерый антисоветчик”… Именно такими словами о нем в одной из глав писали поэт Алесь Бажко и журналист Валентин Пепеляев. “Оказавшись в годы войны в оккупированном Минске, он, как и тысячи его соотечественников, попал в гетто. Но вскоре пробрался в состав созданного на его территории патриотического подполья. Уже после войны, воспользовавшись тем, что еще не были изучены материалы о Минском городском подполье, он написал книгу воспоминаний. В 1947 году она вышла в одном из московских издательств под названием «Мстители гетто». И тут выяснилось, что Смоляр, мягко говоря, не только сильно преувеличил свою роль в организации подполья, но и вообще построил книгу на подтасовке фактов и прямой клевете. Вскоре после этого “герой Минского подполья”, как он себя беззастенчиво именовал, внезапно загорается желанием “строить новую Польшу” и покидает Минск вместе с семьей. Надо полагать, что за пределы Белоруссии Смоляра погнала вовсе не охота к перемене мест, а элементарная боязнь разоблачения его валютных шашней с оккупантами, которые он осуществлял через некоторых членов юденрата гетто…”.
Одни чудовищные обвинения и не единого факта…
Почему главной мишенью оголтелой клеветы и мистификации был выбран Смоляр? Много позднее, уже оказавшись за границей, вне зоны досягаемости советских органов безопасности, Гирш Давидович в своих книгах и статьях открыто писал, что преступный приказ Пономаренко не принимать в партизанские отряды спасшихся евреев приводили к новым и новым жертвам.
Такова одна из причин, побудивших в конце 1980-х гг. партийных пропагандистов организовать травлю Смоляра. Это была месть за его публикации.
…Я читал вслух, сидевший напротив старик в очках толстой оправы молча впитывал смысл. Расширенные в выпуклых стеклах зрачки немигающе глядели на книгу, в которой давалась отповедь негодяям. Я чувствовал, что выполняю некую миссию…
– Герш Давидович, доводилось вам видеть Пономаренко и напрямую говорить с ним? – спросил я.
Мой собеседник вздрогнул, мысли его в этот момент были, чувствовалось, совсем о другом. После паузы он начал вспоминать.
– В Минск после освобождения города вернулось около пяти тысяч человек – те, кто бежал из гетто. Вернулись далеко не все. Положение создалось отчаянное. Уцелевшие на территории бывшего гетто дома заняты русскими и белорусами, евреи вынужденно ночуют за городом в крестьянских хижинах или под открытым небом. Работы нет, а, следовательно, нет и средств к существованию. Многие евреи вынуждены заняться мелкой торговлей, но на базарах их грабят, оскорбляют, порой избивают…
Я с помощью товарищей составил документ на имя первого секретаря ЦК КП(б) Пономаренко, в котором описывал тяжелое положение евреев и предлагал конкретные меры к созданию нормальных условий для их жизни. К документу прилагался список с именами активистов подполья, лиц, ответственных за районы гетто, руководителей «десяток», связных и т.д.
Троих из нас вызвали на прием в ЦК. Пошли члены Союза советских писателей Айзик Платнер, Герш Каменецкий и я. Излагая самую суть, я смотрел на Пономаренко. Тот слушал внимательно, ничего не записывал, ни одного вопроса не задал. Спросил только у моих спутников, не желают ли что-нибудь добавить. Те ответили, что согласны со всем сказанным. А дальше… Пономаренко буквально вызверился. Злоба, ярость полыхала в его прищуренных глазах. Он словно брал меня “на мушку”.
– Вы, – он указал на меня пальцем, – виноваты в разжигании еврейского национализма, против которого мы примем самые решительные меры. Да и как иначе мы можем охарактеризовать вашу “программу” (он имел в виду документ, отосланный в Центральный Комитет). А ваши националистические сборища! Шайки, притаившиеся в своем логове… Ответьте мне, за что вас так ненавидят? Почему, когда оскорбляют Ивана, оскорбляется только Иван, но когда оскорбляют еврея, все евреи чувствуют себя ущемленными?..
В общем, разговора не получилось. Я старый человек, подвержен болезням, но голова покуда не подводит. Помню каждое слово главного коммуниста республики – отъявленного антисемита…
Молча мы шли по ночным минским улицам. Первым гнетущее молчание нарушил Платнер: “Нам всем сегодня был вынесен смертный приговор”. Ошеломленный, я остановился посреди улицы и обрушился на Айзика: ”паникер”, “плакса” и т.п. Герш Каменецкий, всегда немногословный, после моей возмущенной тирады хладнокровно проговорил: “Не кипятись, Айзик прав”.
В то время Смоляр работал над книгой о Минском гетто, и, закончив ее, отвез весной в Москву, в издательство “Дер Эмес”. Книга вышла на двух языках: на идиш (“Фун минскер гетто” – “Из Минского гетто”, М., 1946) и на русском. Многие годы эта книга была единственной советской книгой на русском языке о еврейском антифашистском сопротивлении.
Смоляра хорошо знали в Еврейском антифашистском комитете (ЕАК), и вскоре он стал корреспондентом газеты ЕАК “Эйникайт” по Белоруссии. Нет сомнения, что в годы репрессий его не пощадили бы, как не пощадили Айзика Платнера и Герша Каменецкого, которые в 1949 году, во время разгрома ЕАК, были арестованы. Семь лет ГУЛАГа подорвали их здоровье. В 1957 году на 62-м году ушел из жизни Каменецкий, в 1961-м, на 66-м году – Платнер. Смоляр уцелел, ибо в те лихие годы находился в Польше…
…Мы говорили в тот день о многом. Так или иначе, разговор вился вокруг ненависти к евреям. С антисемитскими настроениями и действиями Смоляр сталкивался повсюду, в том числе и в партизанском соединении. Он вспомнил один из эпизодов. Нескольких еврейских женщин, спасавшихся бегством от немцев и переплывших широкую реку, прямо у берега расстреляли сами партизаны.
– Когда узнал об этом и спросил у представителя Белорусского штаба партизанского движения Царука, за что их убили, то получил такой ответ: “Надежные источники нас предупредили, что гестапо выслало группу женщин подсыпать отраву в наши котелки. Что сделаешь, мы на войне…” Разбираться в достоверности “надежных источников” не стали. Подумаешь, пристрелили прямо в воде несколько евреек! Кто за это спросит?
Случалось всякое. Трагедии поджидали на каждом шагу. Порой беда приходила оттуда, откуда ее не ждали. Чудовищную историю поведала мне Циля Б. – узница гетто, одна из заметных фигур подполья и рельсовой войны. Мы познакомились в 1987-м, вновь встретились в Нью-Йорке и дружили до самых последних ее дней, а ушла Циля из жизни в 98 лет.
В еврейских партизанских отрядах, кроме боевых групп, находились гражданские лица – пожилые, дети, подростки. Гражданских, естественно, было большинство. Среди них и девушки, наиболее беззащитная часть отрядов. Мужчины открыто жили с ними, редко встречая отказ – такова была реальность, диктовавшаяся обстановкой. 16-летняя любовница командира забеременела. В этот момент немцы и полицаи подготовили карательную операцию – отряд спешно покидал обжитой район леса. На седьмом или восьмом месяце беременности девушка выглядела обузой. Командир застрелил ее… В 70-е годы он репатриировался в Израиль. Там узнали о его преступлении со всеми вытекающими…
Циля поведала мне этот факт через немало лет после выхода “Десятого круга”. Нигде никогда прежде я не упоминал об этом. Пишу сейчас впервые.
“ВТОРЖЕНИЕ”
В начале мая 1988-го я начал готовиться к командировке в Афганистан. Вновь судьба выталкивала на орбиту войны. Но если готовясь писать историю Минского гетто, я видел происходившее тогда глазами бывших узников, то теперь мне предстояло самому окунуться в события сегодняшнего дня и стать в той или иной степени их участником.
15 мая мне довелось проделать в первой колонне выходивших из Афганистана советских войск путь от Джелалабада до Кабула. Так был сделан первый шаг к окончанию так называемой необъявленной войны, представшей в страшном, дотоле невиданном обличии (хотя к войнам нам не привыкать), посеявшей смятение и растерянность в миллионах душ и в конечном итоге способствовавшей развалу Советского Союза.
Увиденое и пережитое я отразил в нескольких оперативных репортажах, “Вечерняя Москва” щедро отвела на них целые полосы. Тема горячая, интересовала всех. И в этот момент мне позвонил Владимир Снегирев – известный журналист, член редколлегии, редактор отдела информации газеты “Правда”. Мы были знакомы шапочно. Он сказал, что с интересом прочитал мои репортажи, пояснил, что знает Афган не по наслышке, провел там в качестве советника и собкора “Комсомолки” немало времени. Он предложил встретиться и кое-что обсудить.
Встреча состоялась на редакционной правдинской даче в Серебряном Бору, где круглогодично жил Володя. “Кое-что” оказалось предложением совместно написать книгу о войне. Недолго думая, я согласился. Работать решили на этой самой даче – благо жил я неподалеку. Обязанности разделили, но не так, как братья Гонкуры: один бегает по редакциям, а другой стережет рукопись, чтоб не украли знакомые. “Бегать и стеречь” пока надобности не было – сначала требовалось собрать материалы и свидетельства участников, а потом написать. Договорились ничего не утаивать, рассказывать на пределе откровенности, ничего не страшась. Общество созрело знать правду, какой бы горькой она ни была.
Снегирев в значительной мере использовал свои записи и впечатления от самых разных встреч на афганской земле, я проводил интервью с теми, кто обладал ценной информацией, однако до поры до времени не жаждал ею поделиться. Теперь время это настало. Отказов от интервью почти не было, однако проявлялась и осторожность – так, один крупный военачальник отказался разговаривать в своей квартире на улице Алексея Толстого и повел меня на Тверской бульвар.
…Спустя более чем три десятилетия я повторяю вопрос Евсея Цейтлина, которым начал предыдущую главу, и спрашиваю себя: перевернули ли, изменили ли во многом мою жизнь афганские командировки? И честно отвечаю – нет, не изменили, в отличие от погружения в ад гетто.
Мой соавтор имеет на сей счет иное мнение. “Я очень благодарен Афганистану. Если бы его не было, я бы остался таким же самоуверенным, полублагополучным или даже благополучным московским хлыщом. Афганистан перевернул многое в моей душе, заставил на многие вещи смотреть по-другому. И во всем сомневаться. Война, она все-таки очень сильная школа. И в человеческом плане, и в профессиональном, и в плане дружбы с разными людьми. Аушев, Громов, Востротин, какие-то простые ребята, солдаты, с которыми мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Потому что война, кровью повязаны, что называется. Этого нет ни у кого или почти ни у кого. У меня это есть. И я этим очень дорожу”.
 Было у нас с Володей и одно общее – ненависть к цензурным ограничениям. Я об этом уже много писал в этой книге. Послушаем Снегирева.
Было у нас с Володей и одно общее – ненависть к цензурным ограничениям. Я об этом уже много писал в этой книге. Послушаем Снегирева.
– В условиях тотальной цензуры рассказывать о войне было непросто?
– Не то слово – непросто. Это была чудовищная ситуация. До сих пор я об этом вспоминаю с чувством и горечи, и сожаления, и вины перед теми героями, о которых писал. Я нахожу в Афганистане первого Героя Советского Союза. Там первые герои были за взятие дворца Амина, за 27 декабря 1979 года, по линии КГБ, – один посмертно, один (Карпухин) живой. А из армейских первым Героя получил Сережа Козлов, десантник. Прекрасный парень, такой русский богатырь – голубоглазый, могучий, добрый. Я нахожу его в дальнем углу Афганистана, около иранской границы, мы с ним беседуем, дружим, выпиваем. Я в него влюбляюсь. Пишу о нем очерк, отправляю в Москву. И получаю через две недели газету. Там написано, что десантник Козлов, командир батальона, во время учений проявил смекалку, правильно руководил солдатами, они хорошо отстреляли по мишеням. Ну бред собачий. Я писал о том, что был реальный бой, что он реально рисковал своей жизнью, что были потери в его батальоне. А он, чтобы избежать еще больших потерь, подставил собственную грудь и спас людей. И получил за это Героя. Как же мне было стыдно…
– В Москве с цензорами лицом к лицу встречался?
– Встречался. Они прятали глаза, говорили, что указание сверху. Показывали инструкцию: потери – нельзя, бои – нельзя, участие в операциях – нельзя. Деревья наши солдаты сажают – да, можно. Муку раздают – можно. Я помню, году где-то в 84-м был там в довольно длинной командировке, несколько месяцев, написал о двух девчонках-медсестрах. Они спасали раненых наших во время операций в Панджшерском ущелье. И получили медаль «За отвагу». Цензор все вымарал. Я пошел с заметкой к Ахромееву. Он был 1-й зам. начальника Генштаба, курировал Афганистан. Он взял красный фломастер и вообще все перечеркнул.
Вернусь к нашей с Володей книге. Писать правду оказалось куда легче разного рода
сочинительств. Одна из глав называлась “Грабьармия”.
В Афганистане крали все, что только можно было украсть. Крали, продавали краденое местным жителям или выменивали у них на ходовой товар – джинсы, зонтики, бусы, часы, магнитофоны… И – наркотики.
В воровстве были замешаны в той или иной степени все воинские части, не только солдаты и прапорщики (те в особенности), но даже офицеры. Десантник, командир роты, рассказывал, что из боевых рейдов и операций его ребята возвращались на боевых машинах, как правило, доверху груженных трофеями. “Что там было?” – “Обычно ковры, старинное оружие, дубленки, то есть все самое ценное”. “Трофеями” он называл то, что удавалось под шумок грабануть в дуканах или в домах афганцев. “Ну, а кому же все это предназначалось?” – наивно поинтересовался Снегирев . – “Начальству – кому же еще. Мы отдавали трофеи в полк, оттуда товары шли в дивизию и выше, до самой Москвы”.
Увидев на лице журналиста недоверие и возмущение, десантник начал неуклюже оправдываться: “В первые месяцы войны все так делали. Попробовали бы мы поступить иначе…”
Но это происходило и дальше, а не только в первые месяцы. Происходило все девять лет. Подобно внезапной эпидемии, воровство поразило 40-ю армию и мучило ее вплоть до вывода из Афганистана последних колонн.
…Я прилетел в Джелалабад ночью. Летел с приключениями. Спираль за спиралью, ввинчиваясь в темное небо над аэродромом, наш АН-12, набрав иаконец нужную высоту, чтобы стать неуязвимым для “Стингеров”, вдруг пошел вниз и приземлился опять в Кабуле. Оказывается, кто-то кому-то вовремя не доложил, что в Джелалабад на вывод первой колонны советских войск летит группа журналистов, и самолет наш посадили.
Снова взлет, снова пристегивание парашютов, и через сорок минут под крылом долгожданный город. Под нами шел бой. САБы вырывали у темноты куски пространства, то там, то сям видны были сполохи, следы трассирующих пуль… Нас наскоро запихнули в автобус и немедля отправили в расположение части. Завтра, то есть уже сегодня, на рассвете, мы должны сесть на броню БТРов и вместе с первой колонной мотострелков пройти 150 километров до Кабула. Наступило 13 мая 1988 года, дата начала вывода советских войск из Афганистана.
Нас разместили в офицерском модуле. В десятиметровой комнате я оказался один – вторая кровать пустовала. Работал кондиционер, было градусов восемнадцать, желанная прохлада подействовала, как наркоз, и донельзя усталый, вымотанный, я мигом заснул, вжав воспаленное лицо в холодящую подушку.
Сколько времени прошло, не знаю, но я вдруг явственно услышал сдавленный голос, почти шепот, отчетливо произносивший знакомые матерные слова. “Наверное, “духи”, – спросонья безучастно подумал я, не в силах разомкнуть веки, – но почему они ругаются по-русски?” Голос стих. Приснилось, произнес я про себя, и продолжал спать. Но с каждой минутой дышать становилось труднее. Лоб начал покрываться испариной.
Открыв глаза и посмотрев в окно, я не увидел москитной сетки и кондиционера. Рамы тоже не было. Окно голо зияло, сквозь него в комнату вползала духота. Вот те раз, куда же делся “кондей”?
Одевшись, я вышел наружу, начал обходить модуль и наткнулся на капитана, явно кого-то искавшего. Он растерянно затоптался возле меня. Я показал ему на разоренное окно, и он, сплюнув и выругавшись, прояснил ситуацию:
– Четыре кондиционера увели ночью. Кто? Свои, кто же еще. Через пару часов уходить в Кабул, они и решили напоследок порезвиться. Все равно искать не будут.
– И куда же дели? – выказал я непростительную наивность.
Капитан посмотрел на меня как на дурачка и усмехнулся.
– Местным продали. Деньги, видать, взяли заранее, теперь вот отдали товар. Все по честному, – и уловив всю нелепость вырвавшейся у него последней фразы, снова выматерился: – Эх, грабьармия…
Так я впервые услышал емкое и предельно выразительное определение: “грабьармия”.
Да, грабили много. На протяжении всей войны.
Дорожные патрули грабили проходившие машины. Мотострелки и десантники грабили местных жителей. Прапорщики грабили собственных солдат, продавая афганцам войсковое имущество, горючее, продукты и даже боеприпасы.
А случалось, все они грабили друг друга.
Вышестоящие командиры сплошь и рядом смотрели на это сквозь пальцы. Иные просто ничего не могли с этим поделать, иным же регулярно перепадала часть “навара”. Фактически они становились соучастниками грабежей, мародерств и связанных с этим иных преступлений.
Военный трибунал очень скоро прочно обосновался в расположении штаба 40-й армии. Выносились жестокие приговоры (вплоть до расстрела). Один из первых командующих армией просил Москву разрешить ему исполнять приговоры о расстреле перед строем – для устрашения. Получил отказ: войны-то ведь официально не было, а значит, законы военного времени применять не разрешалось.
Вакханалия всеобщего разбоя продолжалась.
Действовали “интернационалисты” по-разному. Сообразно обстоятельствам. Можно было выйти на середину шоссе с автоматом и знаком приказать сбросить с афганской машины с десяток дынь. Невинная проделка, шалость по сравнению с тем, что творили другие.
Можно было отнять у кочевников барана, пустить его на шашлык и запивать мясо бражкой, купленной у своих же. Продав солярку афганцам, экипаж одного из танков накупил еды, фруктов и, спрятав танк в укромном месте, направился в гости к друзьям в соседнюю часть. Вернулся экипаж и глазам не поверил – танк как сквозь землю провалился. Оказывается, за время отлучки приезжала проверка и “бесхозную” машину забрали. Взводного – старшего лейтенанта отправили домой, в Союз, но не судили.
Можно было “загнать” две бочки топлива, по 250 литров каждая, и получить за все 5000 афгани, как сделал механик танка Борис О., позднее подорвавшийся на мине. Его засек ротный. “Я тебя посажу, дисбат получишь”, – посулил он. – “Мы оба сядем, ты тоже продавал”, – парировал механик. И ротный заткнулся.
А как тонко знали психологию афганцев, их привычки… Если спецназовцы брали караван, то заставляли всех снимать галоши – там караванщики обычно прятали деньги.
Это все случаи первого года войны. Так начиналось. Дальше – больше. И дороже. Колесо КамАЗа менялось на кожаный плащ. Карбюратор – на японский магнитофон. В особой цене было дизельное топливо. Случалось, подъезжали афганские машины с насосами и выкачивали из емкостей наших машин и боевой техники столько горючего, сколько им требовалось. Платили за это по 10, 20, 30 тысяч афгани. Запчасти к автомобилям, особенно резина, также высоко ценились.
В любом дукане можно было увидеть советские продукты: сахар, тушенку, сгущенное молоко…
Как боролись с воровством, мародерством? Прежде всего, досматривали автоколонны, идущие из Афганистана в Термез и Кушку. Чего только не находили: от дорогих магнитофонов-двухкассетников до фруктов. Находили и деньги. Мелочи, скажем, платок или часы-штамповку возвращали, а все прочее – конфисковывали.
Бывало, обнаруживали по 100, 200 тысяч афгани. В емкостях машин – по 700–800 бутылок водки. Одна такая бутылка стоила в Афганистане не меньше 30 чеков.
Начальниками складов, как правило, были прапорщики. Среди них особенно процветало воровство. Была в ходу такая шутка: душманы захватили в плен нашего прапорщика, а местные жители выкупили его, ибо в противном случае некому было бы их снабжать товарами.
Пробовали ввести контейнерные перевозки. Появилась даже специальная контейнерная рота. Но все накрылось – система оказавась невыгодной тем же прапорщикам.
Существовала налаженная взаимосвязь начальников складов и автоколонн. Машины специально перенагружались, и водители с молчаливого согласия начальства продавали по маршруту излишки. Потом происходила дележка денег. С 1986 года начали пломбировать грузы в Хайратоне и других местах. Свою печать ставил начальник склада. Но солдаты попадались ушлые, воровали и из-под пломб.
Фрагмент моей беседы с человеком, знавшим все о преступлениях воинов-“интернационалистов”. Виктор Александрович Яськин, член Верховного суда СССР, генерал-майор юстиции. С 1984 по 1989 годы был председателем военного трибунала ТуркВО. “Пять лет без одного месяца”, – уточняет он. Через него прошли сотни и сотни уголовных дел участников афганской войны.
Виктор Александрович подчеркнуто внимателен, следит за каждым своим словом, тщательно обдумывает ответы. Блуждающая улыбка не гасит, а скорее подчеркивает его напряженность и даже некоторую скованность. Обсуждаемая тема и впрямь нелегка, болезненна, оттого и не открыт, не распахнут генерал-майор юстиции, всячески контролирует себя, как бы чего лишнего не сказать. А может, мне так кажется?..
– Не надо думать, что трибунал Туркестанского военного округа занимался исключительно “афганцами”. Дел, связанных с их преступлениями, прошло за эти годы меньше половины…
Можно ли говорить о намеренной жестокости наших солдат в Афганистане? Я бы не стал утверждать это. Мы и здесь, в Союзе, порой сталкиваемся с непонятным, немотивированным поведением военнослужащих. Что же говорить о войне, тем более такой, как афганская, снимающей ограничители, тормоза…
– Доводилось ли вам, Виктор Александрович, выносить “расстрельные” приговоры?
– Таких приговоров, если опять-таки мне не изменяет память, было два. Один касался офицера К. Вместе со своим сослуживцем Л. он совершил тягчайшее преступление, убив нескольких мирных афганцев. Я председательствовал по этому делу и хорошо помню весь процесс. К. вел себя достойно (если это слово применимо в своем исконном значении), не молил о пощаде, вину полностью признал, чего не скажешь о его заместителе Л., пытавшемся открутиться, обмануть трибунал.
Несмотря на вынесение столь сурового приговора, внутри себя я, не буду лукавить, испытывал к К. жалость. Убежден: если бы он служил не в Афганистане, ничего подобного с ним не произошло бы. Хотя, понимаю, это ни в коей мере не может служить ему оправданием.
К., однако, не расстреляли…
А вот другой случай. За измену Родине был расстрелян некто Демиденко. Он самовольно покинул расположение части, ушел к моджахедам, воевал против нас с оружием в руках, запятнал себя кровью советских солдат. Демиденко принял ислам, сменил свое имя и даже женился на дочери муллы.
В кассационной жалобе он писал, что его нельзя судить за измену Родине, ибо он принял мусульманство. Но трибунал посчитал иначе…
За аналогичное преступление судили еще одного нашего военнослужащего. Тот тоже ушел в банду, но активных действий против нас не вел. Мы, естественно, учли это обстоятельство.
– Отказывались ли наши военнослужащие вести боевые действия в ДРА по политическим мотивам?
– Мне такие факты неизвестны.
– Виктор Александрович, если как на духу, проходили через вас дела, заставлявшие содрогнуться, ужаснуться?
В ответ тяжелое молчание. Тень ложится на лицо собеседника.
– Не хочется вспоминать… И вы меня не мытарьте, ладно?
Яськин сказал все, что хотел, на его полную откровенность рассчитывать не приходилось. Но упорно не шло из головы услышанное как-то от работника военной прокуратуры. Он стал свидетелем, как осужденный в сердцах бросил на суде:
– Вот вы накажете меня за преступление против мирного населения. А вертолетчики? А артиллеристы? А другие? Они ведь, бывало, целые кишлаки стирали с лица земли. Кто их за это осудит?!
И впрямь – кто? Кто, кроме собственной совести, если она осталась…
Подробности того, о чем умолчал генерал Яськин.
Из приговора: “24 октября 1984 года старшие лейтенанты К. и Л. пьянствовали на опорном пункте. Увидев два движущихся через пустыню автомобиля, К. приказал их остановить. Во время досмотра он, требуя сказать, где находятся деньги, бил афганского гражданина… и угрожал ему ножом отрезать бороду…
К. решил убить потерпевших, о чем сообщил своему замполиту Л. Офицеры, сев за управление, повели машины афганцев в пустыню, но вскоре застряли в песках.
К. нанес еще несколько ударов кулаками и ногами, затем приказал афганцам сесть в наш бронетранспортер.
Когда афганцев отвезли в скрытое место, старший лейтенант К. нанес афганскому гражданину множество ударов ножом, затем приказал рядовому К. добить – и тот застрелил потерпевшего.
После этого К. распорядился расстрелять остальных афганцев…”
Из показаний в суде замполита роты Л.: “Досмотр машин афганцев превратился в разбой. Солдаты стали искать не только оружие, но и деньги… Сержант Д. принес мне найденные 700 афгани… Вышел командир роты старший лейтенант К. и сказал, что остальных афганцев надо тоже убрать.
Я подошел к афганцам и стволом автомата показал в сторону арыка. Трое афганцев туда сошли, и я произвел в них три автоматные очереди…”
Из приговора: «Будучи недоволен тем, что афганский солдат, присоединившийся к роте, уклонялся от участия в боевых действиях, К. убил его выстрелом в затылок. После чего открыто завладел 4,5 тысячи афгани, часами “Сейко”…
Военный трибунал приговорил К. к расстрелу, Л. – к 15 годам лишения свободы. Президиум Верховного Совета СССР помиловал К., заменив ему расстрел 15 годами. Сделано это было в ответ на многочисленные просьбы сослуживцев и близких офицера о помиловании.
Своего рода комментарий к рассказанному выше – фрагмент репортажа, опубликованного в “Московских новостях”:
”Их встречали цветами, улыбками, слезами радости на глазах. Играл духовой оркестр, вспыхивали блицы фоторепортеров, тянулись руки с журналистскими диктофонами. А затем грохнули стальные решетчатые двери, и оркестр, оставшийся по другую их сторону, умолк. Оркестр заключенных.
Так началась организованная Союзом журналистов встреча с четырьмя освобождаемыми по амнистии участниками афганской войны.
Четверка амнистированных с улыбками на лицах и цветами в руках покидала «зону». За что они оказались в колонии усиленного режима? Один продал афганцам пятнадцать тонн бензина. Другой заминировал кабину своего автомобиля – погиб сослуживец. Третий покалечил более молодого и слабого солдата, отказавшегося исполнять роль слуги. Ну, а четвертый… Четвертый с двумя товарищами вломился в афганский дом. Они убили девять его жителей, оставив в живых лишь молодую женщину с ребенком, и занялись грабежом. Обшарив дом и забрав все ценности, они изнасиловали молодую мать и расстреляли ее из автоматов вместе с ребенком. Два подонка из этой тройки были приговорены военным трибуналом к смертной казни, и приговор привели в исполнение. А этому, которого на моих глазах освобождали из колонии, расстрел заменили пятнадцатью годами лишения свободы. Сейчас он уверенным, твердым голосом отвечал интервьюирующей его журналистке:
– Это Афган во всем виноват. Там мы научились курить наркотики и стрелять.
– И в детей? – спросила журналистка.
– Да, бывало, – ответил он.
И спокойно отвернулся, пошел к выходу”.
***
…Мы писали об этом не таясь, не боясь говорить правду, не страшась, что кто-то из высокого начальства не одобрит степень нашей откровенности. Мы были свободны – быть может, первый раз в нашей журналистской практике. Такое наступило время – очень быстро закончившееся.
Кооперативное издательство ИКПА выпустило “Вторжение” в самом начале 1991-го тиражом 100 тысяч экземпляров.
Эту книгу до сих пор многие военные и читатели считают одной из самых честных и правдивых. Ее ищут, скачивают текст, она продается в интернет-магазинах. Ее можно читать в интернете. Она не ушла в небытие, отнюдь. Книга насыщена острыми, горячими диалогами авторов – спорами, дискуссиями, желанием докопаться до истины.
Необъявленная война больно ударила по престижу страны, была крайне непопулярной в народе, развращающе подействовала на многих ее участников – не случайно некоторые мафиозные группировки 90-х состояли из “афганцев”. Они боролись с конкурентами за возможность делать криминальный бизнес, отсюда убийства, взрывы типа того, что произошло на Котляковском кладбище.
Той войне дана исчерпывающе негативная оценка. Попытку пересмотреть ее предприняли “афганцы” – депутаты российской Госдумы. Но трудно придать пафос героизма и патриотизма тому, что натворили “воины-интернационалисты” в прежде дружественной стране, где погибли более полутора миллионов жителей. Более того, война стала катализатором последующих событий, в значительной степени обусловила приход в власти талибов, активность “Аль-Каиды”, развитие мирового терроризма, события 9/11.
… В середине 90-х Снегирев поехал в командировку в Афганистан. Ему довелось встретиться с Ахмад Шахом Масудом, в годы войны видным полевым командиром моджахедов. “Вторжение” посвятило этому незаурядному человеку несколько страниц. На протяжении всей войны он был самым опасным противником советских войск. Наша оценка совпадает с мнением генерал-майора КГБ Виктора Спольникова, который, отдавая должное “хозяину Пандшера”, отзывался о нем почти с восхищением: “Надо отметить, что в лице Ахмад Шаха Масуда, таджика по национальности (долина реки Пандшер заселена горными таджиками), бывшего учителя, молодого и энергичного военного руководителя афганская исламская контрреволюцияобрела представителя новой плеяды военных и политических руководителей…”
После вывода советской армии из Афганистана он возглавил фактически независимый населённый таджиками 2,5-миллионный северо-восточный регион Афганистана, прозванный “Масудистаном”, который имел собственное правительство, деньги и хорошо вооружённую армию численностью до 60 тысяч человек.
В 1992 году армии Масуда и Дустума заняли Кабул и свергли правительство Наджибуллы, а Масуд стал министром обороны. Началось его противостояние с Гульбеддином Хекматияром, стоявшим на окраинах столицы. В январе 1994 года Хекматияр уже в альянсе с генералом Дустумом начал военное противоборство с Ахмад Шахом Масудом за контроль над Кабулом..После захвата талибами центральной власти в Афганистане в 1996 году “Масудистан” возродился и вошёл в состав Северного альянса, который возглавил Масуд.
9 сентября 2001 года на Масуда было совершено покушение во время интервью – террористы-смертники выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру. Ахмад Шах Масуд скончался от ран на следующее утро, 10 сентября. По некоторым утверждениям, он был ликвидирован с подачи бин Ладена. На следующий день самолеты террористов врезались в здания “Близнецов” и в Пентагон…
Снегирев подарил Ахмад Шаху Масуду “Вторжение” , показал его фотографию, представленную в издании. Его собеседнику перевели написанное о нем. Ахмад Шах Масуд поблагодарил за подарок и дал распоряжение перевести нашу книгу на английский и таджикский.
…Как ни странно, “Вторжение “ не издано в странах Запада, прежде всего, на английском. Это тем более удивительно, что после выхода разоблачительной книги в свет с нами связались представители ряда зарубежных издательств. Но… только что завершилась война с Ираком в Персидском заливе, и внимание журналистов и издателей переключилось на нее. А жаль… Прочитать “Вторжение” было бы совсем не лишне тем, кто собирался отомстить бин Ладену и его помощникам за 9/11 и начал свою войну в Афганистане, закончившуюся позорным выводом американских войск в августе 2021-го. 20 лет пребывания здесь американских военных и гражданских лиц ни к чему не привели, с вестернизацией Афгана ничего не вышло. Власть захватили талибы. Не станет ли страна новой базой террористов “Аль-Каиды” и ИГИЛ? Этого не знает никто.
…В июне 1993-го я эмигрировал в США. Пути наши со Снегиревым разошлись. Правда, в первые годы эмиграции я приезжал в Россию, мы коротко встречались. Володя тогда занимался новой для себя сферой – туризмом, был главным редактором и генеральным директором журналов “Вояж”, “Вояж и отдых”. Темы Афгана мы не касались. Вскользь Володя упомянул, что занимается поиском и освобождением советских военнопленных в Афганистане, выяснением судеб без вести пропавших.
Новое неожиданное пересечение произошло летом 1996-го на Олимпийских играх в Атланте. Я увидел Снегирева на эскалаторе одного из спортивных залов. Мы замечательно пообщались, крепко выпили, многое вспомнили…
С той поры дороги наши окончательно пошли параллельным курсом.
С помощью интернета я изредка следил за жизнью моего соавтора. (Не уверен, делал ли он подобное). Он оставался верен журналистике: международный обозреватель “Российской газеты”, корреспондент моей родной “Вечёрки” по странам Центральной и Восточной Европы Весной 2016 года МИД Чехии отказал ему в продлении аккредитации. Причины, по которым было принято это решение, не разглашались и квалифицировались тем же МИДом как “особо секретные”. Потом вроде все устаканилось – Володя стал собственным корреспондентом правительственной “Российской газеты” по странам Центральной и Восточной Европы. Выпустил несколько книг. В частности, документальная повесть “Рыжий” посвящена ирландскому журналисту Рори Пеку, погибшему в Москве 3 октября 1993 года во время штурма телецентра “Останкино“.
А что же афганская тема?
Снегирев не забыл ее. Вспомним его откровение: “Афганистан перевернул многое в моей душе, заставил на многие вещи смотреть по-другому”. Из-под его пера выходит история жизни первого президента Ингушетии Руслана Аушева, рассказанная им самим и его друзьями. Он стал Героем Советского Союза в 1982-м. Единственный, кого террористы при захвате школы в Беслане (2004) пустили внутрь, в результате чего Аушеву удалось вывести 26 человек, включая 15 детей.
Книга увидела свет в 2014-м, а тремя годами ранее в соавторстве Володя выпускает политическое расследование“Вирус “А”. Как мы заболели вторжением в Афганистан”. Соавтором стал Валерий Самунин – полковник Службы внешней разведки в отставке. В Афганистане находился более семи лет. Свидетель и участник описываемых в книге событий. Был лично знаком с большинством упоминаемых персонажей.
Я прочитал книгу – действительно, фундаментальный труд, отвечающий на многие острые вопросы. Он – о предтече трагедии, о том, как и почему случилось то, что случилось. О самой же войне – ни слова. Описывать ее ход не входило в задачу авторов. Тем более, существует наше со Снегиревым издание, правдивое и честное, как считают многие участники тех трагических событий и читатели. Вот только “Вторжение” почти не упоминается на различных встречах и собраниях в связи с круглыми датами той необъявленной войны. Книгу не критикуют, ее попросту замалчивают. Словно и нет ее.
Я подумал: если бы такое издание появилось сегодня, нас с Володей наверняка обвинили бы в искажении истории, непатриотизме, клевете на армию. Еще и уголовное дело состряпали. Но кто сегодня в России осмелится издать литературу такого рода?!
Не вспоминает “Вторжение” и мой соавтор. Ни в одном его интервью, ни в одной статье не найти отсылок к книге. Нигде ничего нет. А поводов более чем достаточно. Такое “беспамятство” вполне объяснимо – заметная фигура правительственной газеты, Снегирев помалкивает, не желая ставить под удар журналистскую карьеру. Я не осуждаю его – просто фиксирую факт. Для свободной, независимой прессы в путинской России настали мрачные времена…
ПЛЫТЬ НА ЛЬДИНЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ
15 июня 1993-го я начал свою эмиграцию, оказавшись в благословенной Калифорнии, в дивном Сан-Диего, где уже жила моя семья, уехавшая двумя годами ранее. В одном из романов я назвал мое новое пристанище городом-Раем, городом-сказкой, городом-мечтой, в котором хорошо удавиться.
Сделаю оговорку: за рамками данного сочинения останутся тревожно-заполошные, будоражившие днем и ночью мысли о том, чем заняться в новой жизни, какое применение найти говорящему и пишущему на русском журналисту и литератору, в конечном итоге, как прокормиться. Внутри словно обрушилась несущая конструкция, поддерживавшая надежное, обустроенное здание (во всяком случае, таковым оно казалось). На месте конструкции зияла черная дыра. Жить в пустоте становилось все невыносимее. Обо всем этом уже рассказано в моих “американских” романах, поступки и дела отчасти списанных с автора героев дают достаточное представление – кто читал, тот ощутил.
А покамест я писал статьи в русские газаты Западного и Восточного побережья, добывая материал самыми разными способами, в том числе перелопачивая местные издания на английском, заодно практикуясь в чужом, закрытом для меня языке. Статьи, против моего желания, отдавали унынием и беспросветностью, как и одинаковые, ничем не отличимые дни, проводимые в Раю, среди великолепия, на которое обрыдло глядеть. Так продолжалось три года, пока счастливый случай не выдернул из Райской обители и не перенес, словно на крыльях мечты, в Нью-Йорк, в еженедельную общеамериканскую еврейскую газету на русском, куда я был приглашен в качестве редактора.
Я часто задумывался: почему одним в Америке везет, а другим нет, и можно ли назвать решающим фактором везения багаж, который иммигрант предъявляет в новой жизни тем, от кого зависит его, иммигранта, существование, прежде всего, материальное? Безусловно, не все, но многое определяется, в сущности, простой формулой: если человек в прошлой жизни что-то из себя представлял, то и в новых суровых условиях жесткой конкуренции не потонет – и наоборот. Исключений немного – скажем, хороший врач приехал в новую страну в возрасте под шестьдесят… Ему уже не под силу сдать экзамены и попасть в резидентуру… “Счастливый случай” имел объяснение: мои статьи в “Новом Русском Слове” заметил Саша Фейдер, работавший в рекламном отделе еврейской газеты, он и рассказал обо мне издателю, известному в Нью-Йорке раввину. Саша встречался со мной в Москве, знал о еврейской тематике, которой я в последние перед эмиграцией годы активно занимался – например, освещал нашумевший процесс Осташвили, из общества “Память”, устроившего антисемитский шабаш в Доме литераторов и в итоге загремевшего в тюрьму (процесс был явно показательный). Кроме того, мне удалось найти корректуру знаменитой “Черной книги” и написать об истории ее создания и уничтожения на нескольких полосах “Вечерки”.
Все это и определило выбор раввина в мою пользу как редактора. Началась совсем иная жизнь, близкая и понятная мне. Я оказался в своей стихии…
Продержаться в газете удалось полтора года. Это был рекорд – оказывается, никто до меня в такой должности столько не пребывал. Тираж вырос с четырех до двенадцати тысяч экземпляров. В один момент я почувствовал, что надо уходить. Издатель, личность весьма своеобразная, не мог пережить успех газеты, приписываемый молвой не ему, честолюбие и зависть сжигали его, лишали покоя. Ушел я не по своей воле – меня уволили, и я принял предложение перейти в толстенный рекламный еженедельник с более-менее приличной по меркам такого рода занятия зарплатой и медицинской страховкой. В выходных данных значился редактором, что соответствовало характеру выполняемых мною обязанностей; эта же должность высвечивалась на экранах мониторов общеамериканского канала русского телевидения, где участвовал в программе “Встреча с прессой”.
Русский газетный бизнес переживал подъем, читателей изрядно прибавилось, наше издание вполне отражало вкусы большинства – рассказывать о вживании иммигрантов в новую жизнь, при этом ничуть не забывая оставленное на родине.
Мне не довелось присутствовать при рождении ньюйоркских русских рекламных газет в самом начале 90-х, а меж тем история их возникновения не лишена удивительных и обескураживающих подробностей («все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!» ). Наслышанный о ней и заставший некоторых ее героев, позволю себе приоткрыть завесу над тем, что особо и не скрывалось.
Вообразим подвал или бейсмент, говоря по-американски, жилого бруклинского дома далеко не первой молодости, за столом орудуют ножницами и клеем пара-тройка людей, перед ними кипа свежих, только что доставленных самолетом московских газет и журналов, участники операции под водительством некоего Оскара Выгребного (назовем его так) лихо вырезают статьи, наклеивают на крупные бумажные листы-макетки и складывают пачками. Затем макетки отправляются в типографию, и на следующее утро специально нанятые водители развозят тираж отпечатанного еженедельника “Гонец” по газетным киоскам, русским медицинским и юридическим офисам, магазинам, кафе, ресторанам и прочим местам, где кучкуются наши иммигранты. Разве не гениально придумано: затраты минимальные, никому из авторов не платят ни цента, а прибыль будь здоров, с учетом продажи каждого экземпляра в полдоллара и денег от рекламных объявлений, которых в газете уже больше половины страниц и с каждым разом она толстеет и толстеет, словно беременная…
Помилуйте, это же беззастенчивое воровство! – воскликните вы в негодовании. – Тексты “Гонца” украдены у московских изданий и авторов! Ну и что, спокойно ответит Выгребной, мы, конечно, рискуем, но риск – дело благородное, кто не рискует, тот не пьет шампанское… Читателям же по барабану, как мы добываем тексты, им интересно читать, “Гонец” востребован, тираж разлетается, как горячие пирожки. За жопу нас еще никто не взял…
Так все начиналось.
Примеру удачливого издателя последовал хозяин другой рекламной газеты Гаврик, пригласивший меня редактором. С той лишь разницей, что оформил жульничество, то бишь экспроприацию московских статей, более кошерно: через некоторое время компьютерщики стали сканировать тексты и выдавать на полосы в нормальном виде, чересполосица шрифтов прекратилась.
Я пришел в еженедельник, когда объем его превысил триста страниц. Вскоре мы подобрались к четыремстам. Издание-монстр завоевывало рынок, прибыль хозяина росла. Мне же предстояло заниматься журналистикой как вторсырьем…
В прежней жизни я не встречал таких людей. Как-то вот дороги наши расходились. У Гаврика были странные, остановившиеся глаза, казалось, ты смотриь в пустые зрачки, чем-то он напоминал хорька; носил он цветные свитера, в пиджаке я его почти не видел; стригся очень коротко, типа полубокса, разговаривал подчеркнуто спокойно и тихо – очевидно, усвоил правило: чем тише говоришь, тем тебя лучше слышат, но иногда, в самый неожиданный момент, взрывался; когда он появлялся, краски сгущались, небо темнело – от него исходила сильная, чисто животная, злая энергия, завораживающая волна смутной угрозы.Я обратил внимание на его кисти, маленькие и некрасивые. Слыл Гаврик любителем женщин.
С самого начала я мысленно надевал на работе своего рода противогаз, в нем было все по-настоящему: шлем-маска, очки, клапаны вдоха и выдоха, переговорное устройство.Я словно готовился к отражению химической атаки – закрыть доступ ядовитой информации, по возможности видеть и слышать творящееся в редакции через фильтры… Я убеждал себя, что поступки и действия совершает мой двойник, который в точности похож на меня. Синдром Капгра. Еще не болезнь, но уже близко… Не сразу стало получаться, но в итоге я сберегал нервы.
Старик, отец Гаврика, отвечал в газете за подбор ворованных публикаций о криминале и за эротические статьи. Эротику Гаврик обожал и требовал самых крутых материалов, на грани порно. Я как мог сопротивлялся, выдвигал соответствующие аргументы, Гаврик морщился и всем свом видом показывал: вы, Давид, профи, признаю, однако в сущности гнилой московский интеллигент, для вас существуют приличия, а наши читатели – народ простой, им жареное подавай, например, про минет или кунилингус… Ну и что, что потом звонят и кроют последними словами за, как вы говорите, пошлость и гнусность, зато читают, газету расхватывают, а для нас это самое главное.
Будучи страшно далек от газетного ремесла, не прочитавший ни одной книжки окромя низкопробных детективов (сам утверждал с долей тщеславной гордости), не в ладах с элементарной грамотешкой, Гаврик зрил в корень. Я отдавал должное его звериному бизнес-нюху. Тиражи росли, реклама работала.
Отец Гаврика с утра обкладывался московскими глянцевыми журналами с полуголыми бабами в самых разных позах и смаковал прочитанное, отбирая “самое-самое”. Находиться рядом с ним не представлялось возможным: в немыслимых количествах он поедал чеснок, справедливо видя в нем эликсир здоровья. От него волнами исходило чесночное амбре. Старик выглядел крепким и бодрым, я про себя прозвал его Фроимом Грачом.
Ко мне он относился вполне уважительно, по-доброму. Любил травить байки из одесской жизни цеховиков: как, например, изготавливал и продавал малярные кисти, выходившие из строя через месяц-другой. Сетовал, что хотел наладить такой же бизнес в Нью-Йорке, но не получилось: “У этих американцев жесткие требования к качеству, если давать качество, не заработаешь ни хрена”…
Старик жаловался, что чеснок не помогает сохранить мужскую силу, а он до баб был весьма охоч…; и деньги есть, а силы нет, вот и остается смотреть картинки и облизываться…
Редакция располагалась в выкрашенной в белое избушке на курьих ножках: по ступенькам немногочисленные сотрудники поднимались в трехэтажное низкопотолочное здание, на среднем и верхнем этажах размещались приемная, бухгалтерия и рекламная служба, а собственно редакция сидела в бейсменте. Уже потом, словно устыдившись бьющей в глаза нищеты помещения крупнейшего русского рекламного издания, Гаврик построил рядом вполне приличное кирпичное сооружение с просторными комнатами, мне довелось проработать здесь пару лет…
Так вот однажды… По какой-то надобности я поднялся в приемную, где сидели старик, лениво рассматривавший эротические картинки, менеджер Лариса, красивая жгучая брюнетка, лицо газеты (ее знал весь русский Нью-Йорк) и двое рекламодателей, скорчившихся над столом, заполняя бланки объявлений. Кабинет Гаврика находился по правую руку от входа.
Внезапно дверь кабинета распахнулась, на пороге возник красный от гнева Гаврик.
– Папа, сколько раз я просил тебя не посылать рекламодателей на х..?!
Старик встрепенулся, вжал седую голову в плечи (мы знали – он до смерти боится сына) и залепетал несвойственным ему униженно-просительным тоном:
– Что ты, Гаврик, я никогда не посылал на х… Лариса, скажи…, – обратился за помощью.
– Посылал, папа, мне звонят и жалуются на тебя! – Гаврик кипел. – Ты подрываешь мой бизнес…
Приемная опустела – пара напуганных подателей объявлений вмиг испарилась.
Я приблизился к столу Ларисы и ждал развязки.
– Я вас сейчас научу, как разговаривать с рекламодателями! – фраза равно относилась к отцу, менеджеру и, возможно, ко мне, хотя моя хата была с краю. – Лариса, первого, кто позвонит по рекламе, соедини со мной, я оставляю дверь открытой…
Гаврик ушел к себе, мгновением позже раздалась телефонная трель, Лариса сняла трубку, осведомилась о цели звонка и перевела на Гаврика, сообщив, что позвонивший будет говорить с боссом.
– Здравствуйте, спасибо, что позвонили в нашу газету. Какое объявление вы хотите дать? – Гаврик звучал медоточиво, демонстрируя саму любезность и учтивость. – Ага, рекламу два на три инча, без фото или рисунка, понятно… В рамке или без рамки? Я имею в виду тонкую рамку, которая придаст вашему объявлению дополнительный товарный вид. Цена? Без рамки пять долларов, с рамкой восемь. Почему такая разница? Ну как почему? Рамку дизайнеру надо делать… Сами не знаете, что выбрать?Если вы не знаете, то откуда я могу знать? – медоточивость голоса начала таять, как снежинки под солнцем. – Вы сами откуда будете? – вдруг спросил Гаврик. – А, из Москвы… Тогда понятно… Что понятно? Да то, козел ты долбаный, гандон дырявый, что жалеешь три бакса, не понимая собственной выгоды. Что, не материться? Да пошел ты к е… матери, мне твое реклама на х.. не нужна! – он с треском бросил телефонную трубку на рычаг.
Лариса, прикрыв глаза ладонью, заходилась в истерике, по возможности стараясь гасить звуки угарного смеха, ее большая грудь колыхалась в такт хохоту, я ржал открыто, не стесняясь, старик изображал вымученную улыбку. Гаврик зло захлопнул дверь кабинета…
Что еще хранит память… Да много чего. Например, планерку, едва не закончившуюся слезами милой Маргариты Михайловны. Ее, немолодую сотрудницу главной русской газеты, почившей в бозе незадолго до празднования столетия существования, Гаврик пригласил редактором дочернего издания, в сущности, такого же, как и основное, но более ориентированного на развлечения, не исключавшего, впрочем, похабели на тему обожаемой боссом эротики. Я проинструктировал новую редакторшу перед первой для нее планеркой, что такое Гаврик и какие материалы ему по нутру, а от каких тошнит. Она вроде все поняла.
Обсудив готовящийся номер большой газеты, перешли к маленькой, Гаврик поинтересовался, какую интересную статью новая редакторша предлагает в открытие, и тут прозвучало:
– Исполняется семьдесят лет со дня рождения Николая Рубцова. Я нашла прекрасное интервью с ним.
Установилась тишина, не постесняюсь эпитета – могильная. Я понимающе переглянулся с коллегой Мишей, бывшим сотрудником московской газеты, старым моим приятелем, которому помог устроиться в еженедельник почти сразу по его приезду в Нью-Йорк. Гаврик сидел молча, насупившись, верхняя губа накрыла нижнюю, изображая мыслительный процесс. Старик усердно ковырял в носу.
Наконец, Гаврик выдавил из себя:
– Кто такой Рубцов?
– Ну как же.., – заквохтала Маргарита Михайловна. – Крупнейший русский поэт, безвременно скончался.
– Давид, вы знаете такого поэта? – спросил Гаврик.
– Разумеется. Действительно, выдающийся поэт, – надо было спасать редакторшу.
– Миша, а вы знаете такого поэта?
– Знаю. Погиб по пьяни, – ввернул Миша неизвестно для чего.
– Папа, а ты знаешь такого поэта?
Старик вынул палец из носа.
– Нет, Гаврик, не знаю.
– Вот и папа не знает, – подытожил босс.
Редакторша тяжело дышала, круглые щеки рдели, я боялся, ее хватит удар.
– Маргарита Михайловна, запомните раз и навсегда: никакие Рубцовы мне на хрен не нужны. Криминал, эротика, скандал – вот что мне нужно. Забудьте то, чем вы занимались в прежней великой газете. Она на помойке сегодня, а наш еженедельник цветет и пахнет. Понятно?
…Я провожал редакторшу до метро.
– Что за люди.., выставляют напоказ свою убогость и гордятся ею…, – она едва не плакала.
– Милая Марго, примите сие как данность. Не мы им, а они нам дают работу, это их время.
…Через две недели Гаврик ее уволил.
Вот так “в противогазе” почти десять лет работалось в этом издании.
А как же новые книги? Неужто не было желания отобразить происходившую во мне ломку, корежившую точно наркомана, оставшегося без дозы? Я заглядывал в себя и с тоской и страхом видел пустоту. Я не понимал, как писать об этом – неустоявшемся, зыбком, текучем, будто ртуть.
Лишь спустя несколько лет появился на свет мой первый “американский” роман – “Джекпот”. Все это время шло вызревание, я не торопил, не подстегивал, совмещение писательства с редактированием чудовищного монстра в четыреста страниц требовало огромных усилий, работы на износ, но с появлением “Джекпота”черная дыра куда-то исчезла.
Фрагмент интервью со мной Евсея Цейтлина:
– Кажется, газетная и журнальная служба ничуть не мешает вам. Одну за другой выпускаете новые книги. Причем, две из них – “Джекпот” и “Сослагательное наклонение” – посвящены эмиграции. Ваши герои проходят обычный, тяжкий, как у всех нас, путь: растерянность, переоценка прошлого, счастливая возможность начать “другую жизнь”. На первый взгляд, эти романы пронзительно исповедальны. Так ли это?
– Да, мои повести и романы пронизаны ощущениями прожитого-пережитого, в определенном смысле это одна объемная исповедальная проза. Каждый литератор пишет свою жизнь, чего бы и кого бы он ни касался, какой бы материал ни избирал для сюжета. Конечно, главные герои упомянутых книг – это не я в прямом смысле слова. Тем не менее, мои герои в значительной степени выражают мои мысли и чувства – а как по-другому?
“По-другому” я не хотел и не умел – исповедальность заняла на определенном творческом этапе определенное положение. Прав я или нет, не сузил ли этим художественные рамки – судить читателям. Они же, читатели, смогут порассуждать о доступном и запретном в исповедальной прозе, я же добавлю, подбросив полешек в костер возможной дискуссии, обратясь к самому себе: хотел бы, чтобы о тебе узнали мерзкое, пакостное, стыдное? Не тешь себя надеждой, что всего этого в тебе нет. Есть в той или иной степени, как в каждом человеке. Вот только никто никогда не напишет о себе всего. Зато есть возможность наделить неприятными чертами своих героев, отведя подозрения от себя. Погружая героев в бездну, писатель следует туда за ними, вернее, сначала погружается сам, а потом выныривает и плывет рядом с героями, наблюдая за их превращениями и отчасти руководя ими.
“ДЖЕКПОТ”
Итак, минули годы борьбы за существование – с неизбежными потерями и редкими приобретениями, с мучительным вживанием в новую среду, сближением с сумасшедшим городом, трудно впускавшим в свою ауру, городом, который днем походил на людской муравейник, а на черном бархате ночи обретал апокалиптические черты Армагеддона, места последней битвы. За это время была выведена простая формула: лишь в двух городах мое существование оправдано – в Москве, где я провел, наверное, две трети жизни, и в Нью-Йорке, где предстояло прожить остальное.
В итоге я домолчался до художественного произведения, теснейшим образом связянного с личным иммигрантским опытом. По совету и рекомендации приятеля-литератора отослал рукопись в московское издательство “Радуга”, где он на удивление быстро, без проволочек и казуистического “причесывания”, вышел в свет в 2005-м.
Но почему тема денег, чем занозила выдуманная история русского иммигранта, выигравшего в лотерею безумные миллионы? Неужто решил испытать практикой гётевское: “… Выиграв в лото, ты будешь счастлив, как никто!”А может, признал за истину стишок вагантов:
Деньги повсюду в почете,
без денег любви не найдете.
Будь ты гнуснейшего нрава –
за деньги поют тебе славу.
Нынче всякому ясно:
лишь деньги царят самовластно!
Трон их – кубышка скупого,
и нет ничего им святого.
Пляска кругом хоровая,
а в ней – вся тщета мировая.
И от толпы этой шумной
бежит лишь истинно умный.
Умен ли мой герой-протагонист Костя Ситников? Мне предстояло ответить на этот жесткий вопрос, описав последние три года его поучительной жизни.
Было и еще два обстоятельства, отчасти родивших связанный с лотерей сюжет.
Так случилось, что я на себе испытал потрясающие чувства выигрыша кучи денег. Магия цифр бросила меня в свою стихию, словно пловца в бурный поток – вынырнул я в совершенно новом качестве. Утром 14 июля 1970-го я вышел из лифта на шестом этаже здания на Чистых прудах, где находилась редакция “Вечерней Москвы” , и был огорошен криком: “У нас кто-то выиграл машину!” Меня вдруг зазнобило, как при гриппе с высокой температурой. Несколько лет я безропотно нес общественную нагрузку – распространял билеты ДОСААФ. Кто сейчас помнит такую оборонную организацию?! А тогда она существовала и даже выпускала лотерею. И еще дала повод для анекдота. “На какие три вопроса не смогло ответить ЦРУ?” – “Откуда берутся клопы? Куда девается любовь? Чем занимается ДОСААФ?” Билеты лотереи, естественно, мало кто брал из моих коллег. Искусством уговора я не обладал, поэтому всегда оставалась дюжина-другая нереализованных билетов по полтиннику, за которые я вынужденно вносил свои деньги. Так было и на сей раз.
Оглядев колонки цифр (итоговую таблицу печатала газета “Труд”), я обнаружил, что, действительно, кто-то из нас выиграл автомобиль “Москвич”. Выигрышная серия совпадала с той, что значилась на распространяемых мною билетах, номера же располагались издевательски-близко к главному призу – авто.
20 непроданных моих билетов лежали в у меня дома в письменном столе. Чем черт не шутит, – подумал я, занял пару рублей и помчался на такси домой. Открыл ящик, лихорадочно раскидал “пасьянс” – и “остановись, мгновение, ты прекрасно!” – вот он, выигрыш: номер 02614 серия 14. Число 14 с тех пор стало для меня сродни магическому, хотя нумерологию считал и продолжаю считать хренью.
…Автомобиль в ту пору мне был за ненадобностью, на вырученные от продажи “Москвича” деньги была куплена трехкомнатная кооперативная квартира, куда вселились я, моя жена, маленький сын и моя мать, оставшаяся одна после смерти отца. Никому не нужный, бессмысленный ДОСААФ сделал доброе дело. Но, по правде, особого счастья от выигрыша я не ощутил…
Но я знал реального счастливчика, отхватившего куш, аж 26 миллионов. Водитель русского кар-сервиса в Бруклине, он по средам поздними вечерами развозил сотрудников многостраничного издания, в котором я трудился, после выпуска очередного номера. Толя делился со мной перипетиями нелегкой жизни: сын – бездельник, пропадает в казино, дочь и зять – ему под стать, учиться не хотят, перебиваются случайными заработками… И вдруг… Толя похвастал новыми наручными часами: “швейцарские, Пармеджани, десять тыщ стоят”. В ответ на мой немой вопрос разоткровенничался: “сын в лотерею выиграл миллионы. Представляешь?! Мы теперь богачи…” Я поздравил с невероятной удачей, а сам подумал: “Не в те руки миллионы попали – протранжирит, прогуляет сынок. Добром может не кончиться…” Впрочем, не знаю, насколько оправдался мой прогноз – из газеты я ушел, с Толей связь потерял. По слухам, он остался работать водителем.
Но, разумеется, это были лишь привходящие обстоятельства, вовсе не они побудили избрать именно такой сюжет. Я настойчиво и вкрадчиво, повелительно, порой дерзко-категорично заглядывал в себя, словно исподтишка наблюдал за другим человеком, и мучительно искал то, что мучило и в чем требовалось разобраться. Совершившиеся во мне перемены ждали выхода. Важно было уловить этот момент – не раньше и не позже. Я физически ощущал одиночество моего Кости, и все его лихорадочные действия – искренние, категорические, игриво-легкомысленные: любовные приключения, раздача денег друзьям, путешествия – воспринимались как попытки бегства от тоски и душевной неприкаянности. Огромные “суммы прописью” не спасали, напротив, усугубляли…
Усталость от газетной потогонки исчезала, едва садился вечерами за компьютер. Я выделывал с текстом все что желал, не существовало никаких ограничителей. Постоянные инверсии, сказуемое перед подлежащим, рубленые фразы – особая энергия пульсирующих строк подгоняла, не давала роздыха. Само собой возникли стихи Рильке, которыми я тогда увлекался, вкрапленные в канву повествования, они будили дополнительные эмоции. И вовсе не лишними выглядели дневниковые размышления героя, порой диковатые, парадоксальные, меня за них будут долбать, но я сознательно шел на это.
Действие романа происходило в самом конце 90-х и начале нынешнего века. Костя словно предчувствует, что изменится не только Россия, но и Америка, притом не в лучшую сторону. “А еще вдруг вспомнил Оруэлла. Мне всегда казалось – промыть мозги обществу можно только в условиях диктатуры. Но что‐то не до конца понятное, не оформившееся, подобно куску сырой глины, до которой не добрались руки скульптора, заставляет усомниться в выводе. Неотступно дятлом тукает в висок знобкий вопрос: а может ли такая “промывка” иметь место в свободном (как его считают) обществе? И наплывом, как в кино, – видения одно чудней другого: человек боится высказать свое мнение, дабы не подвергнуться остракизму или, чего более, не быть уволенным со службы; приучают его держать язык за зубами, иначе те, кто диктует новые правила поведения в обществе, рассердятся; привычная толерантность превращается в покорность, в терпимость к понуждению молчать или врать в угоду тем самым, диктующим новые правила, воля и внутренний протест парализуются утробным страхом… Не дай бог дожить до такого в Америке!..”
“Жизнь чаще похожа на роман, чем наши романы похожи на жизнь”, – писала Жорж Санд. Я всеми силами стремился не руководить поступками героя, он поступал по своему желанию и хотению, однако сколько же взял от меня! По-другому, и быть не могло. В сумеречном состоянии он внезапно уезжает в Москву. С головой окунается в водоворот тамошних событий. Волей обстоятельств попадает на загородный пикник к высокому начальнику, связанному с кремлевской администрацией. К Косте с интересом приглядываются, кое-что уже зная о нем: русский американец, миллионер…
“Желают ему здоровья и успехов, сравнительно молодая дама, сидящая по левую руку, тянется, чтобы чокнуться, в разрезе сарафана видна не стесненная лифчиком грудь, она дотягивается рюмкой и поддатым голосом:
– Вы – русский или американец? Я имею в виду: c кем вы себя сами иден…тифицируете? – споткнувшись на последнем мудреном слове.
С вопроса этого, вернее, с ответа на него – дернул же черт на серьезный тон перейти! – и начинается… Мог бы подыграть компании, подольстить даже: ну, конечно, русский, кто же еще, в Америке нам прижиться до конца трудно, невозможно, и ведь правда это, а выскочило неожиданно совсем иное:
– Видите ли… Если несправедливо ругают Россию – я русский, если Америку – я американец.
– А если справедливо?..
– Тогда мне вдвойне обидно за страну.
– За какую?
– За ту и за другую”.
В 2021-м “Джекпот” был переиздан в России (изд. “Алетейя”, г. Санкт-Петербург). К давним рецензиям добавились новые. Мне было интересно читать, как читатели и критики восприняли основные идеи романа. Налицо редкое совпадение авторского видения и взглядов непредубежденных читателей. Исчерпывающе полно выразил главную мысль книги живущий в Америке Роман Солодов (“Независимая газета”, приложение “Экслибрис”): “Джекпот” не о счастливчике, а скорее наоборот – о сущности одиночества, о том, что безусловно присутствует на каком-то этапе (как правило, раннем) жизни иммигрантов. Роман пронизан раздумьями о человеке в “пограничном состоянии”, отплывшем от одного берега и покуда не приплывшем к другому. Мучительное ощущение неопределенности, пережитое, очевидно, самим автором, персонифицировано в его героев”.
Да, это так.
“СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ”
Как и “Джекпот”, “Сослагательное наклонение” произрастает
из удобренной почвы воспоминаний, увиденного, понятого, перечувствованного. Однако тема иммиграции звучит уже гораздо острее, на личностном уровне.
Роман посвящен любви. Вот какую аннотацию предпослало московское издательство “Зебра Е”. «Невероятным, беспредельным, исступленным, жертвенным, безответным, безысходным, бросающим вызов всем и вся предстает со страниц книги это чувство! Но роман не только об этом. Смысл его гораздо шире. Это – глубокий, насыщенный точными и сочными деталями рассказ о поколении, вошедшем в самостоятельную жизнь в 60-е годы прошлого столетия. Людей этих разбросало по миру, одни остались в России, другие, как герои романа, оказались в эмиграции. Особое звучание, особую окраску придает книге описание их жизни в Америке. Роман автобиографичен в той степени, в какой может быть автобиографично художественное произведение”.
Итак, аннотация обнажает особенность книги – предельную исповедальность. Писать – значит читать себя самого. Пытаюсь читать себя всю сознательную жизнь и использовать плоды этого внимательного, углубленного, часто болезненного и опасного занятия. Заглянуть в себя и увидеть бездну доступно лишь гениям. Но и нам есть что рассказать себе – и другим.
Хорошо ли, уместно ли обнажение чувств, не покажется ли читателю перебором? Ответы могут быть разные. Милан Кундера полагает – да, может возникнуть перебор. “…герои рождаются не как живые люди из тела матери, а из одной ситуации, фразы, метафоры; в них, словно в ореховой скорлупе, заключена некая основная человеческая возможность, которую, как полагает автор, никто еще не открыл или о которой никто ничего существенного не сказал. Но разве не правда, что автору не дано говорить ни о чем ином, кроме как о самом себе?.. Герои моего романа – мои собственные возможности, которым не дано было осуществиться. Поэтому я всех их в равной мере люблю и все они в равной мере меня ужасают; каждый из них преступил границу, которую я сам лишь обходил. Именно эта преступаемая граница (граница, за которой кончается мое “я”) меня и притягивает. Только за ней начинается таинство, о котором вопрошает роман. Роман – не вероисповедание автора, а исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую претворился мир”.
В “Прощай, оружие” Хэмингуэя лейтенант Генри говорит: “Счастье – в любимой женщине”. Обрел ли мой герой, носящий странную фамилию Диков, счастье в любви? Во многом он списан с меня, и героиня романа, чье имя так и не названо, – тоже имеет прототип. Я получил разрешение писать все, что хочу, без каких-либо ограничений, за исключением привязки к реальным фактам и положениям. Героиня не хотела быть расшифрованной. И еще с меня было взято обязательство не обнародовать книгу в Америке, не продавать ее здесь и даже не дарить. В России – пожалуйста, сколько угодно, но в Нью-Йорке и других городах – ни в коем случае. Запрет, табу, естественная реакция замужней женщины (увы, любовь наша не закончилась браком…)
Вот почему текста нет в Сети, хотя в России роман по сей день можно легко купить в интернет-магазинах. Конечно, ситуация смешная – автор вынужден скрывать написанное, но я дал слово…
“Не могу жить ни с тобой, ни без тебя” – выражение, приписываемое Марциалу, звучит лейтмотивом романа. Диков корит себя в минуты самокопания: одни ошибки, сплошь провалы, то не так делал и это не так. Главная ошибка – Она. Если бы все вернуть. Если бы было возможно. Бы, бы, бы. Отвратительная частица. Как отрыжка. С формами прошедшего времени, а также с неопределенной формой глагола и с предикативными наречиями, имеющими значение долженствования, необходимости, возможности, образует сослагательное наклонение.
Любовь есть попытка убежать от одиночества. Диков размышляет над этим, и что-то мешает до конца принять формулу, звучащую почти аксиомой. Одиночества страшатся, от него всеми способами стараются избавиться, его нельзя постоянно подпитывать воспоминаниями, которые лишь подчеркивают и усугубляют теперешнее угрюмое, одичалое состояние души. Но при этом одиночество только и дарует истинную свободу. Дико звучит, немыслимо, попирает каноны? Однако вдумайтесь и не отвергайте моментально, с порога. Может быть, потому, что свобода (читай – одиночество) – производное эгоистического “я”, а любовь – растворение эгоистического начала в другом человеке – полное и безоглядное. Но возможно ли? “Невозможно, закон личости связывает, “я” препятствует. Выход один – как бы уничтожить это “я”, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. Вот мудрость жизни, высочайшее счастье отдать безраздельно и беззаветно, вот истина…”
Это из дневника Достоевского. Кто знает, может, в этот момент он думал об Аполлинарии… “Сослагательное наклонение” – попытка героев побороть свое “я” , увы, неудачная.
Листаю страницы романа с белеющими полями, и память уводит в не столь уж далекое прошлое, когда мы – реальные, а не герои литературы, строили планы, надеялись, верили. Эту сцену писал, как художник, – с натуры. …Мы на берегу, близ эстакады, метров на пятьдесят вдающейся в море, я в плавках, Она в ситцевой юбке и распахнутой блузке с короткими, чуть ниже плеч, рукавами, я обнимаю Ее за талию, чуть склоняю голову, чтобы Ей удобнее было целовать, Она, засерев, в томлении прикасается к моей щеке губами, глаза закрыты в истоме, Она как бы тянется ко мне, я как бы милостиво подставляю щеку, из нас двоих на снимке счастливее Она, шуршит волна, пахнет йодом и легкой прогорклостью, в воздухе разлит покой, все прекрасно, любовь существует, она в нас, мы напоены ею, и нет этих минувших лет, тоски, разочарования, отчаянной борьбы за выживание, разлуки, прерываемой ненадолго, осознания безысходности и безнадежности бытия – врозь, каждый своим путем, с шансами пересечься лишь в бесконечности, как две параллельные прямые Лобачевского…
В “Сослагательном наклонении” я впервые затронул тему веры. Натолкнуло на это общение с нью-йоркскими раввинами, прежде, понятно, отсутствовавшее.
В российской жизни я не помнил случая, чтобы отец, мать и родственники говорили о Боге, еврейской или вообще о какой-либо религии. Возможно, они говорили об этом между собой на идише, но мне маме лошн был недоступен. Однажды, правда, отец что-то такое упоминал, беседуя со мной, вроде того, что несколько раз в жизни девятый вал несчастий захлестывал его с головой (отец не был чужд доли возвышенной риторики, выспренности), казалось, спасения ждать неоткуда – и внезапно опасность проходила стороной; постепенно он уверовал, что ничего с ним не случится: ни в сталинском узилище, ни на фронте, куда в 45 лет ушел добровольцем, ни еще где-либо. Была ли это вера в религиозном смысле, отец не говорил. Возможно, имел в виду именно это, я не уточнял…
Я же рос неосознанным атеистом, как и все вокруг, в синагоге на улице Архипова бывал от силы раз в году, на Рош ха-Шана или Йом-Кипур, и то под влиянием друга-кардиолога Марка, отмечавшего все еврейские праздники. У входа в синагогу поднимал воротник плаща, нахлобучивал кепку, глаза прятал под темными очками, старался смешаться с толпой, избегал стоять у входа и точить лясы – знающие люди уверяли, что из соседнего дома скрытая гэбэшная камера записывает все происходящее у молельного дома. Попадать в кадр не хотелось. Стыдно вспоминать об этом…
Я писал о евреях (“Десятый круг”), не будучи евреем, то есть формально был им – к родословной не подкопаешься, на самом же деле не чувствовал себя евреем, и это создавало главную проблему.
В Нью-Йорке начала происходить метаморфоза. Незаметно, исподволь пробуждалось еврейство, оно прорастало, давало культурные и дикие побеги. Но не все было просто. В редакции еврейской газеты, куда я попал после трех лет скуки и безнадеги города-Рая, я носил маленький белый блин – кипу. Заканчивался рабочий день, снимал кипу и прятал в стол. Бывало, забывал и выходил на 8-ю авеню в кипе, спохватывался и незаметно, как мнилось, сдергивал и засовывал в карман. Я покуда стеснялся кипы. Однажды поздним майским вечером возвращался в Квинс и в вагоне сабвэя увидел свое отражение в стекле. На макушке виднелся белый блин. Рука машинально потянулась – снять и тут я поймал любопытствующий взгляд сидевшего напротив старика-китайца. Он улыбался – похоже, что-то понял. Я поерзал на сиденье, поправил галстук, провел по лбу ладонью, словно снимал усталость, и оставил кипу там, где ей надлежало быть.
Мой друг-кардиолог к тому времени обосновался в Квинсе неподалеку, мы посещали синагогу на 108-й улице, он подарил Тору и я читал ее на ночь, открывая новый непознанный мир. Суть Книги открывалась в простом, казалось, постулате: “Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе”. До меня стало доходить: в каждом человеке есть частица Бога – это его душа. Я не пошел по пути некоторых и не стал неофитом, все чрезмерное, нарочитое претило, однако, читая Тору, не выполнял некую обязанность, а следовал внутреннему порыву.
Марк как-то обронил: “Религиозный ты человек или нет, никто кроме тебя сказать не может. Есть только двое – ты и Всевышний. Никого между вами быть не должно.Никто не вправе вмешиваться в ваши отношения, навязывать свою волю, диктовать какие-то условия…” А еще добавлял неожиданное: “Еврей без веры – бессмыслица, нелепость. Евреев-атеистов не бывает…” И мы начинали спорить.
Я хорошо это запомнил и невольно переносил сказанное другом на раввинов, с которыми так или иначе сталкивался. Не то чтобы не взлюбил их, нет, происходило сложнее: некоторым я не верил, в их словах не чувствовал искренности, выглядели они в моем представлении лицедеями, играющим отпущенную им роль, кто талантливо, а кто бездарно, и эти свои ощущения я проецировал на остальных. В конце концов, что такое раввин? Просто звание чиновника института иудаизма и не более того. Учёное звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. Присваивается по получении иудейского религиозного образования; даёт право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда Но главное –раввин не является священнослужителем.
У евреев чиновника зовут раввин, в других религиях – поп, ксендз, пастор, мулла. Если угодно, своего рода офицерское звание. И мундир в соответствии с типом конгрегации: от черной шляпы, черного костюма и бороды у ортодоксов до джинсов и свитеров у реформистов. Офицер офицеру рознь, один – полковник, а всего-навсего зав. вещевым складом, а другой – простой капитан, зато боевой спецназовец… Немало среди раввинов умных, весьма образованных, а главное, светлых, порядочных людей, но есть и круглые нули, прикрывающиеся званием… Да, мы не знаем многих нюансов Закона Божьего, правил общения со Всевышним, как знают раввины. Ну и что? – тормошил я себя вопросами. – Ну и что? Разве это мешает нам находиться в особых, личных отношениях с Богом? Перед Ним мы все равны. И почему между нами и Ним должен стоять раввин? Неужто без него не разберемся?
Такие наставительные мысли составили целую главу романа.
Подписана книга к печати была в самом начале января 2007-го. С финансами у издательства возникли проблемы, авторский гонорар платить было нечем, и я пошел на уступку – вместо денег взял часть тиража, десятую часть (тираж по тому времени был солидный, аж 4000). Экземпляры осели в гараже моего московского друга.
По некоторым данным, значительная часть тиража продана, хотя я не уверен, что это так – книгоиздатели наловчились обманывать…
Как бы то ни было, завуалировать появление “Сослагательного наклонения” оказалось невозможно, рецензенты не прошли мимо романа, в русских изданиях Америки ему посвятили несколько отзывов (экземпляры критики выпросили под честное слово не распространять). А вот в России произошел облом.
В ту пору я еще не расстался с наивной верой, что направляемые на литературные конкурсы книги будут честно прочитаны и объективно оценены. Слава богу, вера эта давно покинула меня, но тогда… Я направил “Сослагательное наклонение” на серьезный конкурс и стал ждать. И вдруг, как гром с ясного неба, появилась рецензия в одной популярной российской газете. Рецензия была погромная в прямом смысле слова. Как ее автор вышел на мой роман? Очень просто – он просмотрел присланные на конкурс издания (такие вещи дозволялись) и решил оттоптаться на книге иммигранта, сочинив текстик, от которого за версту несло злобой и ненавистью.
Молчать я не стал и написал ответное письмо на имя главного редактора.
Даю в сокращении.
Уважаемый… !
Не имею чести быть с Вами знакомым лично. Однако читал некоторые Ваши статьи и интервью, несколько раз видел Вас на экране в программе Матвея Ганапольского “Особое мнение” – в Америке телевидение RTVi весьма популярно. Ваши мысли, суждения, оценки во многом близки мне, поэтому я и решил обратиться к Вам напрямую.
13 марта в вашем издании была напечатана рецензия некоего Сергея Шулакова на мой роман “Сослагательное наклонение”, вышедший в московском издательстве “Зебра Е”. Безусловно, факт отрадный, когда уважаемое издание обращает внимание на твою новую книгу, которая, как мне сказали, неплохо продается в России. Радость моя, однако, была преждевременной. Начав читать опус рецензента (судя по манере письма и резвости обобщений, это молодой, неоперившийся человек), я все более приходил в недоумение. А закончив читать, пожал плечами: “О каком же романе написано? О моем? Нет, тут какая-то ошибка…”
Между тем, никакой ошибки нет. Шулаков сознательно, абсолютно хладнокровно и цинично подверг текст вивисекции, полностью извратив суть и смысл романа. Надергав цитаты, он своими худосочными рассуждениями попытался выстроить конструкцию, которая идет полностью вразрез с тем, что непредвзятый читатель видит в романе.
Вот аннотация, которую издательство предпослало книге. (Далее шел текст, приведенный выше. – Д.Г.) Где об этом хоть слово, хоть полслова в рецензии?
И не от непонимания, не от эстетической слепоты и глухоты, не от неумения внятно излагать мысли все идет, а от предубеждения, от злобного неприятия того, что автор и его герои живут в эмиграции, в презренной и ненавидимой всеми Америке. Не в силах отказать автору романа в умении писать: “Отдадим должное мастерству писателя…”, “Произведение Давида Гая самостоятельно до отваги…”, критик не может пережить сам факт эмиграции.
Начну с заголовка и подзаголовка. “Наклонительное состояние”, “Любовь и журналистика вдали от родины”… И это о романе, действие которого на три четверти происходит в России, о романе, в котором прослеживается судьба героя от рождения до, можно сказать, преддверия старости…
Дальше – больше. Цитирую: “Сослагательное наклонение” разбито на части с “Понедельника” по “Субботу”, видимо, исходя из еврейской религиозной традиции”. Вот уж о чем я вовсе не думал, когда писал роман, так об этом!.. Какая традиция, при чем здесь традиция? Шулаков делает тонкий намек на толстые обстоятельства: автор – еврей и герой его (о, ужас!) тоже еврей. И, естественно, эмигрант, предавший родину. Нормально…
Шулаков пытается язвить по поводу того, что в романе присутствует сцена “ликования по поводу смерти Сталина”, обвиняет автора в нелюбви к российским военным, упоминая его журналистские командировки в Афганистан.
Не хочу больше цитировать так называемого рецензента. С ним и с его образом мышления все ясно. Покопавшись в Интернете, я нашел пару упоминаний о Шулакове (большего пока не заслужил, но еще заслужит –он на верном пути). Самое любопытное: он учился в Литинституте и посещал семинар небезызвестного “национал-патриота” Владимира Гусева. И сразу все стало ясно и понятно. Вот откуда “тонкие намеки на толстые обстоятельства”, злоба и ненависть к писателям-эмигрантам, позволяющим иметь свое суждение относительно путей развития России…
Кстати, по поводу эмигрантской литературы. Знакомо ли Шулакову высказывание Андрея Синявского, что телу писателя все едино где пребывать, в каком месте земли находиться? Это относится и к пишущим на русском. Не хочу говорить о великом вкладе в русскую литературу писателей-эмигрантов – это всеми признано.
Я не питаю иллюзий, что мое письмо будет напечатано. Тем не менее, считаю своим долгом донести до Вас свое отношение к “рецензии” по поводу моего романа. Хотел бы получить от Вас ответ”…
Никакого ответа я не получил.
Не могу простить себе, что не напечатал свое письмо в каком-либо русском зарубежном издании и в Сети. Плюнул на Шулакова – мало ли юдофобов крутится на российских просторах. Исправляю ошибку сейчас, тем более, что Шулаков довольно активно пишет и печатается.
“СРЕДЬ КРУГОВРАЩЕНЬЯ ЗЕМНОГО…”
Отступлю от принятой в этом повествовании композиции и начну с откликов рецензентов по поводу этой книги, увидевшей свет в 2009 году в московском издательстве “Знак”. Надеюсь, меня не упрекнут в нескромности – делаю так лишь для того, чтобы побыстрее ввести тех, кто не читал, в суть хитросплетений 750-страничной саги и заметок на полях.
 …Когда Давид Гай рассказывал мне о замысле этого широкого эпического полотна, я отнесся к нему с известной долей скептицизма. Не слишком ли широк замах? Охватить важнейшие мировые события целого столетия, провести через них десятки героев – как тут не сбиться на скороговорку!
…Когда Давид Гай рассказывал мне о замысле этого широкого эпического полотна, я отнесся к нему с известной долей скептицизма. Не слишком ли широк замах? Охватить важнейшие мировые события целого столетия, провести через них десятки героев – как тут не сбиться на скороговорку!
Автору удалось этого избежать. Хронологические рамки повествования превышают сто лет, но время в романе – это не непрерывный плавный поток. Оно дискретно, импульсивно, движется молниеносными взрывными бросками, и не обязательно только вперед, но часто назад.
Персонаж, от чьего лица ведется рассказ – в нем угадывается сам автор, – нельзя считать главным героем романа. Будем называть его героем-рассказчиком. В книге вообще нет главного героя: персонажей много, они приходят и уходят, уступая место другим, которые позднее тоже уходят в небытие. Разворачивается широкая панорама жизни трех поколений одной разветвленной семьи. Герои вовлечены в круговорот крупнейших исторических событий, которые в основном и определяют их судьбы.
Повествование начинается в июле 1980 года. Преуспевающий московский журналист, победив на конкурсе, премирован творческой командировкой. Он отправляется в приднестровский город (некогда местечко) Рыбница, неподалеку от Кишинева, где когда-то жили его предки.
Затем повествование переносится в апрель 1903 года, в город Кишинев. Юные герои этого повествования Рувим Гольдфедер, его друг Яков Левит и сестра Якова Эстер оказываются в горниле печально-знаменитого еврейского погрома. Они чудом избегают смерти, но случившееся становится определяющим фактором их дальнейшей судьбы. Они не хотят оставаться в стране, где возможны такие зверства, и через несколько лет, преодолевая множество препятствий, уезжают в Америку. Рувим, как можно было ожидать (но при совершенно неожиданных обстоятельствах), женится на Эстер, становясь родоначальником американской ветви семьи Гольдфедеров.
Автор очень ярко описывает нелегкий, полный опасных приключений путь в Америку, жесткие условия выживания в бурлящем Нью-Йорке 1910–20 годов. Повествование ширится, в нем появляются новые персонажи. Один из ведущих героев, Яков Левит (брат Эстер), в погоне за легкими деньгами, связывается с преступным миром и попадает в тюрьму на восемь лет, где происходит процесс его нравственного и религиозного перерождения. Его босс гибнет в бандитских разборках. А старший сын Рувима и Эстер Наум, увлекшись утопическими идеями, уезжает в Советский Союз строить социализм. Некоторое время работает на иновещании, рассказывая угнетенным трудящимся Запада о счастливой жизни народа в Стране Советов. Но едва он начинает избавляться от иллюзий, как его настигает карающая рука. Он гибнет в застенке НКВД. Его младший брат Велвел становится офицером американской армии.
Не менее трудно, хотя и совсем по-другому складываются судьбы тех, кто остался в России. Их втягивает круговорот революции, анархии, гражданской войны, кровавых чисток периода «строительства социализма в одной отдельно взятой стране». Иосиф Гольдфедер – младший брат Рувима, отец героя-рассказчика, тоже попадает в мясорубку ГУЛАГа, но ему удается чудом выскользнуть из нее в период «малого реабилитанса», когда партия «исправляла перегибы» ежовщины. Потом он воюет под Москвой в ополчении и, израненный, остается в живых. А бабушка героя-рассказчика Давида, оставшаяся в Рыбнице, гибнет в гетто…
В то же самое время на Западном фронте, в составе американской армии, воюет с нацистами Велвел – представитель американской ветви…
Рассказчик в начале 1990-х эмигрирует в Америку. Ему удается разыскать и установить контакт со своим родственником Роном, внуком Рувима и Эстер. С его помощью он по крохам восстанавливает историю американской ветви большой семьи, не стесняясь дополнять воображением неизбежные пробелы в фактическом материале. Особую достоверность роману придает обмен письмами между Роном и Давидом, вкрапленными в ткань повествования.
…Эпилог романа символичен. Герой-рассказчик, уже живущий в Америке, приезжает в родное подмосковное Раменское, на кладбище откапывает из могилы своих родителей урну с прахом, собирает в пакет землю и намеревается перевезти за океан, чтобы перезахоронить в Калифорнии. Таков впечатляющий символ, венчающий это повествование.
Полагаю, что даже читатели, мало знакомые с творчеством Давида Гая, могут по этой рецензии представить себе, насколько значителен этот роман и сколь существенен вклад Давида Гая в современную русскую литературу.
Семен Резник, “Литературный Европеец” (Германия)
“Их много, персонажей этого исповедального романа, всех не назовешь и не перечислишь. Читатель наверняка задаст себе – и автору – напрашивающийся вопрос: какова доля правды, что в повествовании навеяно реальными фактами жизни семьи, а что придумано писателем? Не хочу отвечать за автора, тем более, он сам это сделал в многочисленных интервью в русскоязычной прессе Америки. В романе много реального, на самом деле происходившего с героями. И все-таки, “Средь круговращенья земного…” – не историческое исследование, хотя исторических эпизодов в романе много и иначе и быть не могло; не строго документальное описание, хотя тех же подлинных писем приведены десятки (особенно впечатляют весточки отца автора с фронта); не мемуар, хотя размышления автора от первого лица, искусно вкрапленные в текст, определенно носят мемуарный характер. Это – роман в чистом виде, доля художественной правды в нем чрезвычайно высока, что делает его несомненным явлением литературы. Наверняка у каждого, кто его читает, возникает множество ассоциаций с пережитым и выстраданным им лично, его близкими, с тем, что заставляло и заставляет его и сегодня думать, осмысливать, приходить к верной оценке, даже если она и субъективна.
Чрезвычайно важными представляются мне авторские размышления. Одно из них – о свободе. В нем – квинтэссенция семейной саги. Вслушайтесь, вдумайтесь в эти слова. “Человеку только кажется, что он живет в принятой им самим системе координат – она навязана силами извне, и хотя он должен обществу ровно столько, сколько общество должно ему, приходится вписываться в него, находить подобающее место, нишу, иначе не выжить; Система диктует разные правила отношений, в одних случаях стремится ограничить волю и желания человека жесткими законами, в других – подавить произволом, но сколь бы ни пыталась полностью, без остатка, растворить в себе человеческую личность, всегда останутся островки незанятой, непорабощенной, неподвластной никому территории внутри каждого из нас, это как пузырьки воздуха в заполненном водой графине с плотно ввинченной пробкой; нельзя отнять у человека всего того, что ему принадлежит по праву рождения и пребывания на земле. Мы счастливы и несчастливы вне зависимости от Системы, в которой живем, ей только кажется, что она владеет нашими душами, никакая Система не может сделать нас счастливыми и несчастливыми, мы достигаем этого сами, и часто не благодаря, а вопреки; в сущности, жизнь наша и состоит в каждодневном, ежечасном отстаивании права поступать в соответствии с нашими личными желаниями. И потому столь ценятся пузырьки воздуха свободы, отвоеванные каждым из нас, иной раз в жесточайшей борьбе. Они-то и есть самое ценное наше завоевание”.
Ванкарем Никифорович, Газета “Реклама”, Чикаго
…Большое значение имеет переписка автора-повествователя со своим американским племянником Рональдом, внуком Рувима и Эстер. Знакомство произошло сначала заочно – Рональд обнаружил в интернете объявление Давида Гая о поиске своих родственников и написал ему. На протяжении всей книги автор приводит их переписку, в которой уточняются некоторые факты, открываются неизвестные Гаю страницы жизни своих героев, нередко возникают споры… Задайся целью написать лишь увлекательный роман, автор многое бы отсек, кое-где сгустил краски, обострил сюжет, но его цель в другом: “…никого из моих близких – имею в виду родителей и родственников – уже нет на белом свете и сами они ничего не вспомнят, незримо поручив мне сделать это за них…”
Вся книга Давида Гая – попытка разобраться в судьбах евреев в России и США.
Роман Сенчин, “Независимая газета”, Москва
Многие считают эту мою работу лучшей из всего сочиненного. У меня нет определенного мнения на сей счет – возможно, так и есть. Но появись возможность переиздать роман-сагу, я бы кое-что изменил, отредактировал, сократил. Большое видится на расстоянье… Но кто ж возьмется переиздать 750 страниц явно себе в убыток…
Одно греет душу: многие русскоязычные американцы, прочитав сагу, а часть тиража быстро разошлась в США, писали и звонили: “Вы изобразили жизнь своей семьи, а у нас ощущение, будто рассказывается о наших близких…” Читательских откликов из России не поступало…
…Идея заняться жизнеописанием своей семьи возникла вроде бы случайно. Хотя мы знаем – случайностей не бывает: в подкорке это сидело давно, однако не подавало никаких сигналов. Нужен был толчок.
На одном из соревнований фехтовальщиков мой сын Митя, спортсмен и тренер, успешно совмещающий занятия спортом с бизнесом по продаже и покупке жилья, приметил девчушку с именем на фехтовальной форме: Misha Goldfeder. Мой литературный псевдоним “Гай” стал фамилией членов моей семьи, тем не менее, они отлично помнили родовую фамилию – Гольдфедер. Сын подошел к девчушке, представился и задал несколько наводящих вопросов, объяснив, почему их задает.. Misha училась в Гарварде, сказала, что не очень хорошо знает семейную родословную, но бабушка говорила, что они выходцы из России. Митя попросил узнать поподробнее, девчушка пообещала. Они обменялись имэйлами.
Вскоре от Misha пришло сообщение: да, действительно, ее предки эмигрировали из России в начале 20-го века. Жили они в местечке на границе с Румынией.
Митя позвонил мне и сообщил сногсшибательную новость – кажется, он нашел наших близких родственников
В отличие от многих эмигрантов, по приезде в Америку я не искал родственников – было не до того, да и связи разрушились в конце 30-х, когда моему отцу грозил арест. Его предупредил друг детства, начальник местного отдела НКВД. Передаю так, как запечатлелся разговор в памяти моего отца Иосифа Давидовича и как он воспроизведен в книге.
– Слушай меня, Юзик, внимательно. На тебя поступил донос. Подрываешь стахановское движение, выступаешь против передовиков соцсоревнования. По нынешним временам могут тебе впаять контрреволюционную деятельность. Я тебя знаю, как облупленного, никакой ты не враг. Поэтому…сматывайся из Рыбницы куда угодно, только подальше. Даю тебе месяц. Могу потянуть с арестом, но не бесконечно, иначе меня самого…Никому ни слова, уезжай и побыстрее. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек… Ложись на дно, авось пронесет…
Отец не воспользовался советом энкэвэдэшника и через месяц был арестован. Перед этим вся переписка со старшим братом Рувимом-“американцем” сгорела в печке.
Сообщение сына вызвало возбуждение, какое бывает, когда некое событие властно возвращает к неосуществленному по той или иной причине. Может, и впрямь стоит обрести родственников, о которых семь десятилетий ни слуху ни духу? И не только обрести, но описать их американскую жизнь в сопоставлении и сравнении с жизнью оставшихся в России близких? Кое-что о Рувиме и его жене Эстер успел рассказать мой отец. На меня с полки книжного стеллажа глядел молодой человек в модном костюме в крупную клетку. Сидел он в плетеном кресле нога на ногу со слегка надменным (так показалось) видом, держа пальцами правой руки сигару. На оборотной стороне фото, наклеенного на картон с тиснением фамилии фотографа, адресом и упоминанием города – Филадельфия, было выведено выцветшими от времени чернилами: “Дорогой Маме от Рувима. 25 июня 1906 года”. Это было единственное оставшееся от переписки свидетельство пребывания моего дяди в Америке – прочее превратилось в золу.
Но есть Misha Goldfeder, есть ее бабушка – вполне возможно, моя двоюродная сестра. Митя отправил имэйл Misha с просьбой связать с бабушкой. Ответа не последовало. Сын послал имэйл еще дважды – с тем же результатом. Бабушка, очевидно, не хотела знаться “c какими-то иммигрантами, которые наверняка будут просить о помощи…”
А желание создать семейный портрет в интерьере овладевало мной все сильнее. Я начал поиск следов американских Гольдфедеров по своим каналам. Он привел меня к замечательному человеку, директору отдела семейной хроники ХИАСа Валерию Базарову. Вот кто творил чудеса, находя по мельчайшим деталям затерянные следы людей, разделенных многими десятилетиями, часто ни разу не видевших друг друга! Валерий включился в поиск, поднял имеющие документы и свидетельства об эмигрантах, прошедших чистилище Эллис Айленд в 1906-м и… разочаровал – никаких следов Рувима Гольдфедера обнаружить не удалось. Как же так? Есть же его фотография с надписью на обороте!
Стали искать живущих в США моих однофамильцев. На удивление, их оказалось немало, большинство – выходцы из Германии, российские жили не там, где росли корни моей семьи. Лишь несколько эмигрантских семей заинтересовали Базарова, но при ближайшем рассмотрении прояснилось – моих Гольдфедеров среди них не было.
Базаров выдвинул версию: мой дядя въехал в США по подложному имени – так по ряду веских причин поступали некоторые (необходимые документы можно было купить). А затем вернул прежнюю фамилию. Суд, через который предстояло пройти, выглядел щадящим – предстояло ответить только на один вопрос: легально ли человек въехал в США.
Отказ бабушки Misha и неудача в поиске нисколько не охладили желание писать книгу. Более того, контуры ее в силу сложившихся обстоятельств обозначились гораздо яснее. Это будет не документальная работа, не историческая, не мемуар, а художественная литература со всеми присущими качествами. Я имею право фантазировать, придумывать, сочинять. Больше это пригодится при описании жизни американскиой ветви семьи за сто лет, ибо российская ветвь достаточно хорошо мне известна, отец и мать о многом успели рассказать, в определенной степени я непосредственный свидетель и участник многих событий. И не буду связан никакими обязательствами: не потребуется согласовывать написанное с “американскими” Гольдфедерами, “облагораживать” поступки, действия,, вычеркивать не понравившееся им, и пр.
Я успокоился и приступил к работе, ощущая себя в некотором роде Пименом, свидетельствующем от лица многих, выбрав эпиграф из Томаса Эллиота: ”И то, о чем мертвые не говорили при жизни, теперь они вам откроют, ибо они мертвы, откроют огненным языком превыше речи живых…”
Что удивительно – мне не потребовалось составлять подробный план глав, не определять заранее, что за чем должно следовать, дабы не возник хаос в описаниях. Все совершалось без авторского участия, как бы само собой, я не руководил героями, они руководили мной, выстраиваясь в очередь и отслеживая порядок. Это был совершенно иной, новый писательский опыт. Повествование шло в двух плоскостях – российской и американской, реальные факты переплетались с вымыслом, фантазией, история плавно перетекала в давние и нынешние события, а письма и документы дополняли коллизии, происходившие с героями саги, свободно перемещавшимися во времени и пространстве. Недаром роман имеет название, навеянное строчкой известного стихотворения Пастернака: “Средь круговращенья земного…”
Многочисленные презентации, общение с читателями показывали: сага затронула болезненный нерв, люди хотели знать свою родословную, понять, как складывалась судьба первого поколения еврейских иммигрантов, тяжело выживавших, унавоживая более легкую дорогу детям и внукам. Я не вылезал из главной ньюйоркской публичной библиотеки, листал подшивки старых газет, выискивал необычные факты и события, рождавшие знобкое чувство открытий. Мой неустанный поиск нашел отклик – для многих читателей узнанное из книги явилось откровением.
И еще одно обстоятельство делало мою работу особенной. Второй раз в творческой биографии (впервые в книге о Минском гетто) я касался еврейской темы. Невольно сравнивал с работой над повестью “День рождения”. Образ Анфисы Ивановны был списан с моей матери, они были похожи даже внешне – недаром я предложил художнику издательства использовать для обложки портрет матери…С какой радостью я наделил бы героиню повести еврейской душой, еврейским духом! Теперь у меня появлялась возможность сделать это.
В России отреагировали на появление саги полуравнодушно. Стоил 750-страничный том дорого, раскручивать его было некому, да я и не ставил такой задачи с учетом резко убывшего в эмиграцию еврейского населения. Еврейские издания отозвались несколькими спокойными рецензиями. Однако не все – самый тиражный журнал “Лехаим” предпочел отделаться десятью невнятными строчками. Подтекст полуявно объяснял, почему смысл и суть саги неприемлемы для издания, курируемого близким к Путину Главным раввином России Бер Лазаром. Уверяющим, что государственного антисемитизма в России нет и за это надо лично благодарить Владимира Владимировича.
Тогда еще мы не читали статью журналиста “Комсомолки” Ульяны Скойбеды, в которой говорилось: “Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было проблем”. Не слышали заявления Петра Толстого, вице-спикера Госдумы, о тех “кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году”, а также о том, что “сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек”. На это не последовало никакой реакции государства.
Но и тогда, в 2009-м, хватало фактов антисемитизма, на которые государство не реагировало. У Главного раввина и сотрудников подведомственного ему издания имелся свой взгляд на судьбы евреев в путинской России – вполне благополучные, по их мнению. Моя сага явно не вписывалась в их представления. Могли ли сотрудники журнала одобрить, скажем, эпилог, в котором заложена квинтэссенция книги? Живущий в Нью-Йорке автор специально приезжает на подмосковное кладбище, где покоятся его родители, чтобы забрать их прах и перезахоронить в Америке. Образ золотого пера (так с немецкого переводится фамилия Гольдфедер – Авт) незримо витает над могилой.
Вот последние слова романа.
“Стало не по себе, неуютно-знобко. Обрывалась последняя ниточка, связывавшая мою семью с тем, что называют отчим краем… Прошлое отлетало от меня, как душа от бренного тела. Я не знал, приеду ли сюда когда-нибудь. Во всяком случае, с Раменским я прощался навсегда… Рано или поздно это должно было произойти, но я не предполагал, что так мучительно отзовется внутри. Тоска не покидала меня. Надо мной проносились ветры забвения, холодили лицо, иссушали слезы. Золотое перо вспорхнуло и набрало высоту; гонимое восходящими воздушными потоками, оно летело долгие часы, миновало, никем не замеченное, охраняемые границы и устремилось далее, через моря, леса, горы, долы; легкое, невесомое, бестелесное, оно парило над землей и мчалось вперед с редкостным упорством, стремясь достичь желанной цели и приземлиться, осесть где-нибудь за многие тысячи километров, прочертив свой путь “средь круговращенья земного, рождений, скорбей и кончин”…
Автор не хочет ничего оставлять в России, даже родительский прах. Звучит как приговор стране. Бер Лазар по определению не может такое принять, а следовательно, нечего удивляться действиям сотрудников “Лехаима”, решивших замолчать роман… Но – не удается, о книге говорят, пишут, желающие покупают…Что еще нужно автору…
“ТЕРРАРИУМ”
После семейного романа-саги вектор творчества сделал зигзаг, стрелка компаса показала резко влево, хотя куда уж резче. Опять же случайностью это не назовешь.
В 1998-м на должность директора русскоязычной телерадиокомпании WMNB в Нью-Йорке был назначен Владимир Дмитриевич Надеин. Блестящий журналист “Известий”, фельетонист, публицист. В США в тот момент он был собкором своей газеты. Мы познакомились за год до этого на одной из пресс-конференций. Помню, он спросил меня: “Легко ли выживать пищущему на русском журналисту?” Будучи редактором еженедельника, я честно ответил: “Нелегко”. Спрашивал Надеин с дальним прицелом – через несколько месяцев он стал большим начальником на WMNB.
Открыв свою аналитическую телепрограмму “Встреча с прессой”, он начал регулярно приглашать меня участвовать. Мы подружились, называли друг друга по именам, но были на “вы”. В эфир выходили раз в неделю. Когда Володя уезжал, я оставался за него. Мне платили небольшой гонорар. Программа пользовалась популярностью, нас смотрела, без преувеличения, вся русская Америка.
Во время одной из передач мы обсуждали выдвижение Путина на роль преемника Ельцина. Хорошо помню свою реплику: “Не знаю, какой я физиономист, но мне кажется, этот человек (Путин) принесет огромные беды своему народу и миру”. Володя не согласился, мы поспорили.
Так продолжалось до возвращения Надеина с женой Ольгой в Россию в 2000-м. Мы, его друзья, отговаривали от этого шага, но он нас не послушал.
Возможность перемен казалась ему вполне реальной. Увы… Вот что он сам написал по этому поводу спустя некоторое время: “Вернулся на родину с радостью, которая плавно переросла в отвращение”. Он стал резко оппозиционным путинскому режиму публицистом, печатался в “Ежедневном журнале”, в “Новой газете”, выступал на радио “Свобода”. Какие же это были потрясающие статьи, бьющие не в бровь, а в глаз! Посвящены они были в том числе Чечне, Грузии, Украине, Сирии – всему тому, где с наибольшей силой проявился преступный характер путинского режима.
Жизнь штука суровая и часто несправедливая. Надеин столкнулся с проблемами здоровья. Вместе с женой репатриировался в Израиль. Жил в Ашкелоне. Не замыкался в себе, своих переживаниях, с жадностью познавал новую для него действительность. Не слишком обращал внимание на обстрелы города палестинскими боевиками. Мы общались по скайпу, Володя шутил, но глаза, лучистые, с искорками ума и иронии, глаза были уже не совсем надеинскими…
Знаменитая израильская медицина оказалась в итоге бессильной – 12 декабря 2016-го Владимир Дмитриевич покинул земную юдоль.
Почему я вспоминаю этого блестящего человека? Именно по той причине, что вначале он не согласился с моей оценкой ВВП. Зато потом писал о российском пахане так, как никто не умел и не смел.
Закончив роман “Террариум”, главный герой которого – Путин, я дал читать рукопись нескольким близким знакомым, желая узнать их мнение. Вот отклик Надеина.
“Прочитал почти до конца. Осталось, может, на час или, самое большое, два. Наверное, это неверно – так спешить с отзывом. Но – не могу молчать. Это превосходно! Совершенно замечательная, проницательная работа, насыщенная глубокими внедрениями в реальные процессы, бывшие, сущие и будущие. Хотел бы сказать хоть какую гадость автору, но – не могу. Не потому, что «совести не хватает». Просто не знаю, к чему придраться. Не придираться же к тому, что где-то на будущей Олимпиаде у спортзала поехала крыша? Может, она и не поедет, хотя – должна.
Не устаю восхищаться Вашим мастерством в привлечении огромного информационного материала. Как Вам удается вытесать эти глыбы и притащить на свой письменный стол? И все же даже это потрясающее достоинство отступают (или бледнеют на фоне?) перед двумя характеристиками, определяющими высоту работы.
Это, во-первых, совершенно блистательная русская речь.
Это, во-вторых, глубина психологического анализа.
Дочитаю до конца, насребу каких-никаких критических замечаний и с наслаждением всажу Вам в спину какую-нибудь псевдокритическую псевдооткровенность. Надо все-таки поддерживать миф о моем скверном характере. А пока – ни на что, кроме поздравлений, не гожусь.
Ну, и смертельно завидую, что естественно.
Ваш В.Н”.
Перечитываю отзыв и чувствую некую неловкость – прежде не удостаивался таких эпитетов рецензентов. Впрочем, если бы Надеину не понравилось, он бы прямо сказал об этом – лукавства и двоемыслия был лишен начисто.
 Похоже, именно то мое давнее телевизионное высказывание о личности российского лидера послужило триггером, спусковым крючком для выстрела в виде “Террариума”. Вышел он в США в 2012 году в издательстве Mir Collection, который возглавлял Марк Черняховский. Он был единственный, кто осмелился…
Похоже, именно то мое давнее телевизионное высказывание о личности российского лидера послужило триггером, спусковым крючком для выстрела в виде “Террариума”. Вышел он в США в 2012 году в издательстве Mir Collection, который возглавлял Марк Черняховский. Он был единственный, кто осмелился…
Роман стоит особняком ко всему написанному мной, не похож ни на одно мое произведение. Книга – о России. Сегодняшней и завтрашней. Реалистическое повествование причудливо переплетается с антиутопией – с присущими ей предсказаниями и предугадываниями, фантасмагорией, гротеском, сатирой… Многое в тексте зашифровано, однако легко узнаваемо. Так, Россия названа Преклонией, Америка – Заокеанией, Германия – Гансонией, Франция – Галлией, Китай – Поднебесной, Афганистан – Пуштунистаном… И имена героев слегка изменены, но читателям не составит труда определить, кто есть кто.
В центре повествования – образ Высшего Властелина Преклонии, сокращенно ВВП. Его жизнь и судьба даны в различных временных срезах. Заканчивается роман точной датой – 7 ноября 2017 года, и это не случайно. На обложке – дракон, распростерший черные зловещие крыла над контурной картой Преклонии с силуэтом кремлевской башни.
Жанр и стилистика будущего романа определились сразу – реалистическое повествование, основанное на жестких, неопроверживых фактах, – и полет фантазии: этого не было, но вполне могло быть. С фантазией понятно, но где добыть те самые “неопроверживые факты”? И я засел за изучение биографии реального ВВП.
Начну, однако, с другого – с удивительного попадания, которое открылось позже выхода романа. Россия именуется Преклонией – мне название показалось весьма символичным. И надо же, я выпустил из вида, точнее, из памяти, важную деталь “Истории одного города” Салтыкова-Щедрина: градоначальник Угрюм-Бурчеев потребовал, чтобы жители Глупова возваели своими руками город под названием Непреклонск. Преклония-Непреклонск – разве не попадание?!
Ну, а теперь – о главном.
Я проштудировал книжки и статьи о ВВП, увидевшие свет в первое десятилетие его власти. Сочинено (и наврано) про него было много чего; не зря он бросил однажды: “Я вообще не знаю, что там можно написать. Я бы про себя столько не мог написать”. Я же в ворохе макулатуры нашел некоторые важные детали для характеристики моего будущего героя – скажем, воспоминания учительницы Веры Гуревич о “мальчике маленького роста, бледнолицем, с глубоко посаженными серого цвета глазами, над глазами яркие черные брови, что очень разнилось со светлыми волосами. Про себя я назвала его светлоголовым, что впоследствии оправдало себя…” Особо не обратил внимание на откровения училки с еврейской фамилией, но далее.. Далее пошло такое, от чего перехватило дыхание. Эврика! И как в издательстве не заметили, пропустили… “Всем классом мы выращивали утят, чтобы пополнить свой пищевой рацион. Пришло время забить одну из уток. Все отказывались рубить голову бедняжке. Чтобы не так печально все выглядело, ребята разыграли сценку. Устроили суд над уткой, обвинив ее в том, что, дескать, дерзко нарушала правила жизни: ела больше всех, уплывала дальше, чем положено, позже всех засыпала. Привязали бедняжку за шею, и один из ребят с грустными причитаниями потащил виновницу к плахе – ею было обыкновенное бревно. На палача накинули красное одеяло тоже одноклассницы. Во время процессии к плахе несчастную с «плачем» сопровождали желающие. Слабонервные, вроде меня, удалились от места казни подальше… Во время казни доля палача выпала на мальчика, который категорически отказался: “Делайте со мной что хотите, но я рубить голову не буду, не умею и не хочу”. На помощь другу пришел будущий ВВП, накинул на себя одеяло, сказал: “Введите несчастную, положите ее так, чтобы я мог одним ударом отсечь ей голову”. После казни кто-то стал щипать перья – это надо делать пока тушка не остыла…”
Дальше – еще интереснее. Удалось добыть то, о чем почти никто не ведал.Учась на втором курсе университета, будущий ВВП уговорил одного из своих друзей, никогда не занимавшегося таким серьезным и опасным видом спорта, как дзюдо, заменить на соревнованиях заболевшего члена команды, он как капитан очень хотел выиграть, просто был одержим этим желанием. За день до соревнований он попытался обучить приятеля нескольким приемам, однако это не помогло, и все закончилась трагически – во время схватки у друга произошло смещение позвонков и он умер в больнице. Капитана тогда едва не исключили из университета, но помогли покровители из Большого Дома на Литейном проспекте; капитана мучили муки совести, говорят, даже плакал на похоронах, но содеянного не вернешь, и он постарался все забыть…
Еще не ВВП, но уже большой начальник ехал декабрьским вечером 1997 года по Можайскому шоссе, за рулем джипа был его водитель, ехал он с большим превышением скорости и сбил насмерть ребенка по имени Денис; пассажир отмазал водителя от заслуженного наказания, сотрудники службы безопасности силой увезли деда ребенка с места трагедии, а еще не ВВП стоял рядом и не препятствовал, напротив, споспешествовал. И все произошло как обычно в стране: водитель вину не признал, дело закрыли в связи с амнистией.
Разумеется, я не прошел мимо досье Марины Салье, возглавлявшей комиссию депутатов горсовета Санкт-Петербурга и изучившей деятельность моего героя на посту председателя комитета по внешним экономическим связям при мэре Собчаке. В Сети куча документов, все подлинные, не копии, касаются бартерных поставок продовольствия из-за рубежа в обмен на сырье из госрезервов. Вывод комиссии – мой герой, сплошь коррумпирпованный, совершил преступление: сырье было продано, необходимые продукты не поступили, деньги украдены. По имевшимся данным, городские и школьные столовые, больницы кормили собачьими и кошачьими консервами вместо мяса и тушенки. Моего героя надо было снимать с должности и проводить уголовное расследование, однако все спустили на тормозах – Собчак встал грудью на защиту.
Что только я не читал в Сети! И о связи моего героя с тамбовской ОПГ, и о наркотрафике из Латинской Америки (в контейнере с тушенкой обнаружилась тонна кокаина), и о многом другом. Все подкреплялось документами и живыми свидетельствами.
Для меня до сих пор загадка, как Марине Салье удалось уцелеть. После избрания моего героя президентом она прекратила политическую и общественную деятельность и уехала к сестре в деревню в Псковскую область. Там прожила до 2012 года, когда скончалась от обширного инфаркта. Она почти не давала интервью и не встречалась с журналистами. При этом не скрывала: покинула Санкт-Петербург из-за страха за свою жизнь. Ее можно понять… ВВП не свел с ней счеты по одной ему известной причине…
Немало полезного для себя я почерпнул из интервью друзей и знакомых моего героя. Таковых в Сети оказалось немало. Из этого, казалось, неиссякаемого источника выудил я прелестный анекдот, рассказанный моим героем, тогдашним майором-разведчиком, числившимся сотрудником Дома советского-германской дружбы в Дрездене. (Он вообще любил делиться анекдотами, зная, кому можно, а кому опасно рассказывать. Имел такую слабость). Прошедшего все проверки и изучившего все премудрости шпионского ремесла агента-нелегала выводят в тыл противника, перед переходом границы с ним договорено, что, оказавшись на чужой территории и не встретив помех, он даст знать отмашкой руки, что всё, мол, в порядке. Готовивший нелегала оперработник в волнении говорит своим начальствующим сопровождающим, наблюдающим за агентом в бинокли: “Следите за рукой, следите за рукой!” В конце концов агент подаёт сигнал рукой, но совсем не так, как все ожидали – выставив сжатую в кулак правую руку и подсекая левой руки локтевой сгиб: нате вам, выкусите, я на свободе! В лексиконе ВВП выражение “Следите за рукой!” заняло достойное место, и он нередко его использовал для подчёркивания своего отношения к словам собеседника – не выдавай желаемое за действительное.
В немецком архиве обнаружилась папочка с отчетами некоей Ленхен. Папочку скрупулезные немцы в архиве держали на всякий случай, он представился и пожалуйста – сенсация!
Ах, Ленхен, Леночка, кто бы мог подумать, что милая прибалтийская немочка с пышной грудью, не зря оперативная кличка была “Балкон”, действительно, сиськи оттопыривались, как архитектурное сооружение на фасаде дома, служившая переводчицей в Западной группе советских войск и без мыла влезшая в душу тогдашней жене будущего ВВП, работала на две разведки – советскую и немецкую; Леночка или как там ее… наверняка имя придуманное, подружилась с женой Людмилой – водой не разольешь, а та с ней, оказывается, по-бабьи делилась сокровенным, жаловалась, что муж рукоприкладствует и изменяет направо и налево. Леночка забеременела, держала в тайне, от кого, окружающие догадывались, что от непосредственного шефа, стала утверждать, что возникли проблемы со здоровьем и выпросила у своего начальства разрешения получать время от времени медицинскую консультацию в западной части Германии, что и было ей разрешено, а затем и вовсе осталась там, у своих хозяев; ее наградили, выдали новое удостоверение личности.
Много чего женушка наговорила Леночке: якобы женушку, по ее словам, мой герой постоянно испытывал, вроде как все время наблюдал за ней, какое примет решение, верное или нет, выдержит ли то или иное испытание – однажды, еще не были мужем и женой, даже подослал к ней молодого человека, тот попытался на улице с ней познакомиться, телефончик всучить ради проверки, будет ли верной супругой или хвостом начнет вертеть, а она и не подозревала, что это – проверка, и выдвинула в разговорах с Леночкой предположение, что не впервой муженьку проделывать такой фокус: до нее встречался с медичкой, то же имя носила, что и она, дело к свадьбе шло, уже кольца обручальные купили и платье невесте пошили – и вдруг все лопнуло, похоже, тот же трюк с проверкой провернул, а медичка раскусила каким-то образом, обиделась и свадьба расстроилась; попутно жаловалась подруга, что про место службы он ей долго не говорил, словно не доверяя, врал, что в уголовном розыске работает, утром ловит, вечером выпускает; в еде был привередливый, никогда не хвалил приготовленные обеды и не помогал с уборкой, даже когда дочки родились, следуя принципу: женщина в доме все должна делать сама… – в общем, цербер, домашний тиран… Однажды побил за дочку младшенькую: задержалась жена в очереди в магазине на территории преклонской танковой армии, стоявшей по соседству, – давали бананы, заморскую невидаль, деликатес, маленькая дочурка, в Германии родившаяся, одна оставалась, проснулась, задергала ножками, запуталась в сетке кроватки и стала отчаянно плакать от испуга, услыхали соседские женщины, быстро вскрыли квартиру и привели в чувство зашедшуюся от крика; он когда узнал, в бешенство пришел – оставить малышку одну и по магазинам шастать… ну и не сдержался, впрочем, “воспитывал” жену и за другие, менее серьезные провинности.
В общем, материалов подобралось изобилие, важно было достойно ими распорядиться, следовать избранному жанру и не перетонить.
Чикагский журналист и критик Семен Ицкович опубликовал рецензию на роман в ньюйоркской газете “Еврейский мир” и в русском журнале “Мосты”, издающемся в Германии. Привожу фрагмент.
“Предо мной необычная книга – по крайней мере, мне подобные давно не встречались. Жанр, обозначенный автором, – роман. Но на другие романы этот роман не похож. И на другие романы того же автора – тоже не похож. В нем всё иначе – и по форме, и по содержанию. Это поражает читателя, и лишь по мере чтения начинаешь понимать, что содержание неохватно и наблюдаемо автором как бы отчужденно, а форма таки-да соответствует содержанию…
Итак, книга про ВВП. Инициалы более чем знакомы, но здесь это Высший Властелин Преклонии. Автор в своей книге (объемом в 255 страниц) обнаруживает знание неимоверного множества деталей и нюансов жизни ВВП и всех обитателей его террариума – это, по-медицински говоря, анамнез – совокупность сведений о пациенте, дающая диагносту наиболее полное о нем представление. Далее идет психоанализ, дающий понимание того, как черты пациента формировались и чем обусловлены, что у него отчего и к чему ведет. А уж затем – прогноз, по крайней мере, ближайшего будущего – пациента и страны.
Таково в общих чертах содержание романа, но представленной мною здесь последовательности вы в книге не обнаружите. Она выстроится постепенно по прочтении книги и в размышлениях о ней. Роман четко не структурирован, в нем нет обозначенных глав и параграфов, сплошной текст лишь в нескольких местах прерывается просветами – это как непрерывное раздумье сразу обо всем, без остановок, без отступлений, без диалогов. Такова избранная автором форма письма, видимо, обусловленная авторским ощущением ситуации.
Писатель повсюду шествует рядом с персонажем, как бы вместе с ним (или за него?) думает, вживается в его образ, вникает, как говорится, в нутро и в его прошлое со всеми, вплоть до интимных, подробностями – известными, понаслышке узнаваемыми, а то и вовсе до прочтения неизвестными, новыми, о которых не знаешь, правдивы они или придуманы (автор и впрямь дал здесь волю фантазии и, естественно, сатире, гротеску) – но в совокупности картина получается реальная, психологически цельная, достойная доверия”.
“Террариум” отдельными главами печатался в международном литературном журнале “Время и место”, в журналах”Мосты” и “Литературные задворки” в Германии. Полный текст романа можно читать в Сети.
Книга разошлась в Америке. В России смельчаков растиражировать такого рода литературу не находилось. Более того, даже некоторые русские издатели в Европе (например, Евгений Беркович) отказались публиковать “Террариум”. У страха глаза велики…
Благодаря стараниям профессиональной переводчицы Нины Генн, “Террариум” появился на Амазоне на английском, в электронном и бумажном вариантах. В первые пару месяцев было куплено некоторое количество экземпляров. Потом – тишина. Разговаривая с американцами, читавшими роман, я постепенно начал понимать, в чем наш с Ниной просчет. Текст был обращен, прежде всего, к русскоязычным читателям, им мои зашифровки, переиначивания имен и географических названий, сдобренные фантазией факты и истории, скрытые намеки были понятны, они жили и варились в этой кухне; другое дело западные читатели, которым кое до чего приходилось допетривать, они не сразу врубались в суть. Потому-то мы в конце книги дали глоссарий с пояснениями и расшифровками – их оказалось 66 (?!). Слишком много…
Теперь-то я понимаю – следовало подготовить адаптированный перевод. Хорошая мысля приходит опосля…
Главная проблема, однако, заключалась не в адаптированном переводе (отредактировать перевод не составляло труда, если бы в этом появилась надобность). Проблема была в другом – толкового честного литературного агента мне в Америке найти не удалось. Отсутствие его резко тормозило выход книги на американский и европейский рынок. Одностраничное письмо-query для литературного агента с изложением сути книги и развернутый синопсис я направил доброй сотне тех, без кого в Америке невозможно пробиться в солидные издательства. Многие ответили пугливо-осторожно: да, замысел интересен, но заинтересует ли образ ВВП американского читателя? Завершался 2011 год, у власти в России находился Медведев, в скандальную, подлую рокировку далеко не все верили, отъем Крыма, сирийские события, пропитанная допингом сочинская Олимпиада, убийство Бориса Немцова у стен Кремля, отравление Скрипаля и Навального – все еще было впереди. Сквозь формальные ответы агентов проглядывало: им не хотелось возиться со странной рукописью. Заработать на ней трудно, издательства не захотят рисковать: могут замаячить суды., шутка ли, злопамятного лидера ядерной страны выставляют в таком неприглядном свете…
На Нью-Йоркской книжной ярмарке несколько лет назад я действовал самостоятельно и предлагал английский перевод разным издателям. Это был мартышкин труд – на меня смотрели с подозрением: чудной тип… Их не интересовал роман – их удивляло, что автор действует без агента. Один канадский издатель все же соизвосил прочитать заявку и синопсис и бросил на меня обескураживающий взгляд: “Если я издам вашу книгу, Путин будет меня судить и разорит…” Против такого убийственного аргумента я оказался бессилен…
Один мой проницательный приятель высказал парадоксальное суждение: за такой текст Владимир Владимирович по идее должен быть благодарен автору. “Моль” – прозвище Путина в период его службы в ленинградском КГБ – вырастает в книге до гигантских размеров и уже никакая не моль, а дракон, всевидящий и всеслыщащий, карающий и милующий, подчинивший себе всех и вся. Понятное дело, “благодарности” ВВП автор не дождется. Дракон книг не читает, а прочтя такую, вполне может послать гонцов с полонием или с чем-нибудь подобным.
Жанр антиутопии, пусть и не в кристаллически чистом виде, позволял отпустить вожжи фантазии, придумать удивительные метаморфозы, приключающиеся с героем. ВВП в романе обожает змей, устраивает на даче террариум и ловит гюрзу – сюжетец сколь неожиданный, столь и возможный после, скажем, полета со стерхами… Мало ли что может взбрести в голову лидеру нации, демонстрирующему свое величие то голым торсом на коне, то поглаживанием тигрицы, то нырянием за амфорами… Главная особенность книги, на мой взгляд, и заключена в невероятных превращениях, трансформирующих вполне реальные события, происходящие в годы правления ВВП. Фантазийно-гротескная основа абсолютно реальна. И потому появился внебрачный сын, рожденный в бытность моего героя в Германии; мальчик подрос и стал качать права: дескать, я сын великого человека, хочу, чтобы он признал себя моим отцом, а коль не признает, то обращусь в суд. Для этого понадобится генетическая экспертиза, однако возникла проблема со сбором необходимого для экспертизы материала. Охранники тщательнейшим образом заметают все следы пребывания ВВП за границей во время официальных визитов: сами меняют простыни и наволочки, не доверяя гостиничным уборщицам, моют сортиры и умывальники, дабы не один волосок не попал в чужие руки, пьет и ест ВВП только из своей посуды и т.д. Что, невозможно? Еще как возможно! Пьет же он на приемах на глазах у западных политиков особый настой из алтайских трав из собственного термоса…
Я отмерил окончательную дату жизни ВВП мартом 2017-го. Произошла катастрофа вертолета в Сибири, и Верховный Властелин Преклонии погиб. Жанр позволял такой допуск. Далее – трехдневный траур.
“Показывалось, писалось, говорилось везде и всюду только о Нем, чья гибель стала поистине трагедией для многих людей, которых охватила мгновенная, не поддающаяся объяснению, неподвластная разуму, безграничная и всеохватная, почти мистическая любовь к навсегда покинувшему их Властелину, и даже вчерашняя ненависть оборачивалась если не любовью, то прощением; но при всем при этом, сквозь скорбную музыку, приглушенные, неэмоциональные голоса ведущих и гостей теле-и радиостудий, выступления ораторов на организованных митингах и собраниях трудовых коллективов слабо, еле уловимо, с почти нулевыми децибелами, словно сам по себе, доносился вздох облегчения, он пробивался к преклонцам почти так же, как некогда в приемниках, продираясь сквозь мощные глушилки, потрескивал, шелестел, пищал желанный “Голос Заокеании”; вздох этот исторгали не только живые, одушевленные обитатели огромной страны, но, казалось, почва, вода, воздух, деревья, строения, звери, птицы, рыбы, насекомые, у этого вздоха не было имени, пола, возраста, адреса, он был безымянным, принадлежавшим не кому-то отдельно, а всем вместе, он стелился по земле подобно туману, когда в нем не видать ни зги…”
И как положено, загробный Частный суд над ВВП. Приведу текст с купюрами.
“… положенным образом душа ВВП приплыла к иным берегам, где нет суеты и раболепия, каждому воздается по делам его земным, честно и справедливо, и где ничего нельзя утаить и никого нельзя обмануть, а приплыв, оказалась в огромной прямоугольной зале с мраморным полом, по одной, меньшей, стене шли две бронзовые печи-жаровни и масляные светильники, три другие стены пребывали в полумраке, редкие свечи бросали слабые блики на копошащиеся тени, похожие на очертания тел, проглядывали отдельные лики и тут же завораживались бесплотными залетейскими тенями, будто отражения вод подергивались рябью; у освещенной стены стоял невысокий, одного роста с ВВП, худой невзрачный человек в окружении ангелов с крыльями до пола, большие залысины и узкий клин коротких темных волос на лбу делали лицо удлиненным, венчала его курчавая бородка; одет человек был в белый колобий – род узкой туники, ниспадавшей до пят, с рукавами по локоть, сверху накинут гиматий – длинный и широкий отрезок ткани наподобие плаща, который человек потом сбросил, ибо от жаровен шло тепло, ВВП не знал названий этих одежд, они напоминали виденное на иконах, особенно изображение Христа – в хитоне до ступней ног, перепоясанного, с идущими по плечам узкими, как бы вытканными полосами-клавами – облачение же человека, перед которым предстал ВВП, выглядело простым и обыденным.
– Ты ведаешь, кто я? – спросил человек, ВВП поразили его глаза, в них, как в жаровне, полыхал огонь.
– Ты какой-то церковный чин, иерарх, наверное…
– Чины бывают в твоем бывшем ведомстве, однажды ты обмолвился, что бывших в твоем ведомстве не бывает, а здесь, где ты находишься, чинов нет и быть не может; я – апостол и зовут меня Павел – слыхал обо мне?
– Слыхал, конечно! – воскликнул ВВП, обрадовавшись неизвестно чему, – и даже читал твои Послания – к римлянам, коринфянам, евреям, к кому-то там еще…В Новом Завете полно твоих Посланий, я же верующий, православный, крест ношу…
– Носить крест – еще не значит быть истинно верующим, истинная вера зиждется на любви и милосердии.
ВВП пропустил мимо ушей последнюю фразу, апостол же, устремив на него пристальный, оценивающий взор, перешел к делу, кратко, но достаточно внятно объяснив, что сейчас будет происходить в прямоугольной зале:
– Многие грешники избежали Ада, потому что, прощаясь с жизнью, успели искренне покаяться, дьявол, таким образом, лишился добычи, однако ты не покаялся.
– Я не успел, ты же, наверное, знаешь, что случилось…
– Ты внутри себя, в сердце своем никогда не каялся, тебе такое состояние не ведомо, ибо всегда и во всем считал себя правым; в Псалмах говорится о таких, как ты: “слова уст его – неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро, на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом”.
– Ты несправедлив ко мне, апостол, – нахмурясь, возразил ВВП, прилив внезапной, ничем не обоснованной радости от общения с ним обернулся отливом волны, – я делал много доброго, увы, не все это понимали, ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей.
– Не собираюсь оценивать все твои деяния, не для того мы здесь собрались, хотя, не скрою, я подготовился к встрече с тобой, узнал про тебя многое, тем не менее, пусть прокуроры и историки занимаются этим делом, у нас же сейчас другая миссия… Оглянись-ка лучше по сторонам, знакомы ли тебе эти лики? ВВП последовал указанию и обернулся – тени у противоположной плохо освещенной стены заколебались, задвигались, заскользили серым маревом перед глазами.
– Темно, апостол, я никого не различаю.
– Я помогу тебе: это только часть тех, кого с твоей помощью и при твоем участии погубили, лишили жизни.
– Это что, суд?! – не веря услышанному, вопросил-вскричал ВВП.
– Это Частный cуд, он предшествует Страшному суду, который определит, где место твоей душе – в Раю или в Аду.
Прежде чем мы начнем, наберись терпения и выслушай… Души умерших попадают сюда со всем своим содержимым: дела их ходят вслед с ними, ходят со всеми своими мыслями и чувствами, со всеми достоинствами и пороками, и таких, какие они есть, какие они вышли из тела и земной жизни, судят на Частном суде и определяют их временное положение в загробном мире, положение, в котором они будут находиться от Частного до Страшного суда. Однако и сама душа в загробной жизни, хотя бы всем существом своим и хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле, не может этого сделать, не может потому, что в загробном мире ей будет недоставать тела, недоставать земных условий. Другими словами, в загробной жизни покаяние невозможно, ибо здесь дозревает то, что было начато на земле, и в том направлении, в котором было начато – не зря мы называем жизнь на земле сеянием, а жизнь в загробном мире – жатвою…”.
– Из твоих пространных рассуждений вытекает, что я опоздал с покаянием…, – хмуро, с безнадежностью в голосе заметил ВВП.
– Опоздал…, – словно эхом, подтвердил апостол Павел, – но ты и не хотел каяться, это было выше тебя, твоей непомерной гордыни, ты – нераскаянный, и, мне кажется, никогда не ведал сострадания, любви… Начнем, пожалуй….
Павел сделал знак ангелам, которые подскочили к неосвещенной стене и приказали прятавшимся теням двигаться к свету, по мере приближения к апостолу тени неведомым образом преображались, обретая человеческую плоть, их были многие десятки, а может быть, сотни, преобладали дети, мальчики и девочки – в нарядной школьной форме; по мере их приближения ВВП охватывал знобящий ужас, он уже понял, каких свидетелей и какие обвинения предъявит ему в следующую минуту апостол.
“По выражению твоего лица я уразумел – ты знаешь этих людей, хотя никогда с ними не встречался, да, это отравленные газом заложники театра, где шел мюзикл, это ученики и взрослые в северокавказской школе, которых сожгли огнем и уничтожили снарядами и выстрелами в результате атаки на террористов; ты всегда боялся показать свою слабость, хотя слабость на поверку нередко оказывается силой и мудростью, ты не хотел выпускать террористов живыми, ни в театре, ни в школе, не шел с ними на переговоры, отметая саму возможность этого, тебя при этом не волновала судьба ни в чем не повинных людей, особенно детей, их гибель оправдывалась в твоих глазах уничтожением тех, кто держал их в заложниках; и, верный себе, ты отрицал очевидное: помнишь встречу с матерями погибших в школе детей? – как ты крутился, изворачивался, делал приличествующее моменту скорбное лицо, когда тебе показали фото сожженного ребенка, помнишь…; на самом же деле тебе было наплевать”.
– Апостол…, не делай… из меня… чудовище, – нутряно, тихо, разделяя каждое слово, произнес ВВП. – Я смотрел на снимок и сердце кровью обливалось – поверь мне, но что мы могли тогда сделать….
– Что сделать? Террористы сразу же выдвинули свои условия – прекратить войну в Вайнахии, вывести войска.
– У них не было требований.
– Неправда, они выслали две записки и одну кассету.
– Про кассету я не знаю.
– Опять лукавишь.
– Мы пытались все время вести переговоры, постоянно договариваться с ними, чтобы категорически не допустить штурма.
– Возможно, тебя обманывали, – немного сжалился Павел, видя темнеющее, как при обжиге глины, лицо ВВП, – не называли точное количество заложников, сознательно или от страха дезинформировали, но чего стоят такие исполнители и почему ты их не покарал, а, напротив, наградил? И ты не смог ответить потребовавшей от тебя объяснений матери: почему вещи детей нашли спустя полгода на свалке, почему детей мучили три дня, убили, сожгли, а потом их останки вывезли на ту же свалку на прокорм бродячим кошкам и собакам; ты только темнел лицом, как сейчас, и приговаривал: “я не снимаю с себя ответственности”; а потом другая мать, потерявшая дитя, сказала, что приехала на встречу для того, чтобы посмотреть в глаза Властителю, который два часа сидел у Гроба Господня и каялся; “Вы каялись о Беслане? – спросила несчастная. – “Да”. – “Тогда покайтесь перед моим народом”, а ты ответил: “Кто-то может использовать эти слова для развала Преклонии. Террористы сначала готовят теракт (одна трагедия), а потом работают с жертвами (другая трагедия)”. – “Так не давайте почвы, работайте так, чтобы этим силам невозможно было что-то делать”, – сказала мать…
А теперь ответь мне, апостолу Павлу, как на духу: неужто ты забыл великого писателя: не приемлет Иван Карамазов Бога, который допускает страдания невинных детей ради некой “высшей гармонии”, не стоит она слезинки хотя бы одного замученного ребенка! Ну, о понимании Бога Иваном мы сейчас в рацеи пускаться не станем, но вот детская слезинка, одна лишь слезинка… А тут – сотни потухших глаз, из которых никогда ни одна слезинка не выкатится… Дела милосердия, совершенные или не совершенные человеком в жизни, таков главный критерий на нашем Суде, истинная вера и есть милосердие, есть ли оно в тебе? Не вижу, не чувствую.
Из толпы теней-свидетелей, на несколько минут по воле апостола обретших тело, выделился человек и неверным шагом, приволакивая ногу, с трудом приблизился к апостолу и ВВП – можно было разглядеть его изнуренное, измученное, похоже, подточенное болезнью лицо; Павел протянул ему руку и буднично, внешне спокойно – то-то и страшно, лучше бы гневался, подумал ВВП:.
– Того, кто держит мою руку, отравили, влив в чай полоний; только не делай вид, – повернулся к ВВП, обдав пламенем зрачков, – что не понимаешь, о ком и о чем идет речь – сделано было с твоего ведома, а может, и приказа, иначе и быть не могло; он – из твоего ведомства, в том же звании, что и ты, только решил говорить правду, раскрыл тайные козни против определенных лиц, а предателей, в твоем, разумеется, понимании, уничтожают, где бы ни прятались – и нашла его отрава в Альбионии, где поселился с семьей”.
ВВП молчал, его уже не знобило – к ужасу добавился утробный страх, он заполнялся им, как дирижабль – гелием, только взлететь и покинуть судилище не представлялось возможным, и тогда он, сглотнув горькую слюну, спросил то, что давно вертелось на языке, искало выход:
– Посланец Иисуса, разреши мои сомнения, наставь на путь истинный: у Бога одна мысль и одно желание – миловать, Бог, мне кажется, ищет в душах людских такое не изуродованное жестокостью, ложью, коварством и корыстью место, которое может подвигнуть к милости и прощению за грехи… Не осуждай других и сам не будешь осужден, это правильно, от человека зависит, как Бог отнесется к его грехам, я понял это слишком поздно, однако как совместить милость Божью, стремление оправдать каждого, лишь бы найти то самое не пораженное метастазами грехов место – и мучения грешников в Аду, куда попадают они опять-таки по воле Божьей и по его суду?”
Апостол покачал головой и улыбнулся – в первый раз за время разговора: “Ты задал мне задачу…, что ж, я рад, что ты озаботился этим вопросом, в самом деле, как может в сознании человека ужиться образ Бога любви с образом Бога-карателя, осуждающего созданных Им людей на вечные муки? Преподобный Исаак Сирин ответил следующим образом: нет человека, лишенного любви Божьей, и нет места, непричастного этой любви; однако каждый, кто сделал выбор в пользу зла, сам добровольно лишает себя Божьего милосердия. Уразумел? Я никогда не видел Иисуса Христа во дни Его земной жизни, я видел Его внутренним оком: не я живу, но живет во мне Христос, Его раны я ношу в себе, так вот, любовь и милосердие – родные сестры, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий; если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто; и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы… Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине… Покайся, и Бог услышит твою молитву, и, быть может, растождествит тебя и твои поступки”.
– Но это же ничему не поможет…
– А ты покайся, не ожидая никаких благ и никакой благодарности; ты каешься не перед зеркалом, вглядываясь в себя, ты каешься перед Христом, а если Христа нет, то ты, взглянув на себя в зеркале, окаменеешь от ужаса, будто увидишь Медузу-Горгону… Знаешь молитву? Не знаешь… А еще верующим себя считал, крестик алюминиевый носил… Эх, ты… Повторяй за мной: “Бог Отец, во имя Иисуса Христа прошу тебя: прости мне мои грехи, я раскаиваюсь в своих грехах, я раскаиваюсь, что воровал, ненавидел, прелюбодействовал, завидовал, я раскаиваюсь, что обижал слабых, я раскаиваюсь, что делал зло…, я понял, что до сих пор жил неправильно…”
– Скажи, апостол, может ли оправданный на Частном суде быть осужденным на Страшном? – спросил ВВП, закончив повторять слова молитвы.
– Нет.
– А может ли осужденный на Частном суде быть оправдан на Страшном?
– Да, это как апелляционная инстанция – у людей есть шанс быть спасенными там, где они не могут быть оправданы… На сегодня хватит. Продолжим завтра…, – с этими словами апостол Павел дал знак ангелам и они растворились в пространстве..”.
Некоторые читатели предъявляли мне претензию: развитием сюжета вы невольно оправдываете присутствие нацлидера-дракона, держащего все под контролем – ведь после его ухода страна погружается в хаос… Я такую претензию, прозвучавшую на нескольких презентациях романа, отвергал: после стольких лет подавления свобод, превращения Преклонии в оруэлловское государство абсурда, тотальной слежки и изгнания инакомыслия естествен процесс очищения, а он не может происходить гладко. Стране придется пережить потрясения, освобождение от пут прежнего режима – или окончательно остаться на обочине истории.
Антиутопия – это еще и предугадывание того, что произойдет. Своего рода игра, своеобразным призом которой является “попадание в точку”, когда события происходят именно так, как предсказал автор. Я угадал: и освобождение Ходорковского, только в более поздний срок, и женитьбу героя на Алине (в романе она Арина), и некоторые другие моменты. Кое-что подтвердилось частично: крыша на одном из олимпийских объектов в Сочи таки обвалилась, но не во время Олимпиады, а на пару месяцев раньше. Нет в романе, изданном в 2012-м, и сирийского конфликта, и украинского Майдана с изгнанием Януковича, и захвата Крыма… Но я и не ставил перед собой необходимого условия – играть с читателем в “угадайки”. Задача была иная: дать психологически глубокий и точный образ Дракона в облике ВВП. Вам судить, справился ли я с ней.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”. “КАТАРСИС”
Андре Жид писал: “Плохой романист создаёт своих героев; он направляет их и заставляет говорить. Настоящий же романист слушает их и смотрит, что они делают; он слышит их голоса ещё до того, как с ними познакомится”.
Не собираюсь оценивать собственное творчество – это дело читателей. Образ героя нового романа соткался, по сути, из ничего, из атмосферы, окружавшей предыдущую книгу о ВВП – “Исчезновение” стало ее своеобразным продолжением. Сюжет о двойнике нацлидера показался многообещающим. Познакомившись в своем воображении с Яковом Петровичем – феноменально схожим с оригиналом, я дал ему волю резвиться в рамках дозволенного такому специфическому персонажу. Собственно, появление человека, наделенного именем и отчеством героя “Двойника” Достоевского (кстати, почти никто из критиков не обратил на это внимание) своеобразно развивало действие “Террариума” – там после гибели Властелина на внеочередные президентские выборы идет как самовыдвиженец его клон…
Понятно: чтобы сочинить историю двойника, пришлось реанимировать оригинал, время действия романа – вторая половина 2023-го и начало 2024-го.
И тогда, когда писал роман, и сейчас, я убежден – у ВВ не было и нет двойников. Он и сам публично отрицал факт присутствия некоего лица, подменяющего в определенных ситуациях. Впрочем, кто ж нацлидеру поверит… Вот и рождались конспирологические байки… “Ежели существует тёмная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную, губительную стезю, куда мы бы иначе никогда не вступили, – ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим “я”, ибо только в этом случае уверуем мы в неё и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для её таинственной работы”, – Гофман прекрасно выразил. От него тема мистического, часто демонического двойничества перекочевала к русским классикам: Пушкин, Одоевский, Гоголь, Достоевский…
Я все больше увлекался замыслом, таившим большие возможности; Яков Петрович лишь отдаленно напоминал особый тип доппельгенгеров, давным-давно выведенный литературой: в отличие от других, он отбрасывал тень, отражался в зеркале, не выглядел темной стороной ВВ, мистические, демонические черты напрочь в нем отсутствовали, да они были не нужны – он являлся, по замыслу, простым, бесхитростным исполнителем порученной ему миссии и только.
Случались, правда, конфузы. “Однажды, прибыв на объект (образцово-показательная больница в приволжском городе), открыл дверцу лимузина раньше времени, вышел наружу и с ужасом увидел, как на него движется Сам, а сгрудившийся у входа медперсонал аплодирует высокому гостю, получается – не одному, а двоим ВВ; охрана мигом загородила Двойника, оттеснила к лимузину, Сам, кажется, ничего не заметил, но, как сказал один из телохранителей, разговоры по больнице пошли.
Двойнику сделали внушение, призвали быть более внимательным, не спешить, но вскоре он прокололся снова: не успев перегримироваться, будучи голоден, в образе вождя влетел в столовую губернаторского офиса, где Сам проводил совещание с активом уральской области, подавальщицы еды выпали в осадок при виде ВВ, он все понял и спешно ретировался.
И был случай в бане, это уже на одной из госдач на Алтае, куда Сам приехал отдохнуть и порыбачить: Двойник в свободные часы решил попариться, снял грим – парик и усы, в парной нежились еще трое мужиков, в белесом тумане никто ничего не заметил, а на выходе в предбаннике на него вылупили глаза – ребята из охраны встали, как по команде, прикрыв руками срамные места. Вот была умора…
Важная особенность текста виделась в том, чтобы через восприятие Двойником на протяжении ряда лет действий ВВ перед читателями предстал образ российского лидера в целокупности его взглядов, фобий, искривленных представлений о своей стране и мире. В романе, по сути, два главных героя – Двойник (Яков Петрович) и ВВ.
Единственная их встреча и беседа состоялись, по моей придумке, на Валдайской даче. Первое мгновение, показалось Якову Петровичу вечностью. “ВВ немигающе всматривался в него (с кем мог он сравниться по степени страха, вызываемого в людях одним своим неулыбчивым видом, пристальным, немерцающим, неотрывным взглядом выцветающих с возрастом глаз-плошек: сколько раз репетировал Яков Петрович один на один с зеркалом этот немигающий, как свет фонарного столба, взгляд!..). Он автоматически ответил таким же испытующим взглядом – по-другому не смог. Так они и буравили друг друга, один на правах Властелина, другой – копируя, словно боксеры-профи перед началом поединка, сходясь лицом к лицу, пытаясь испугать, посеять неуверенность в сопернике”
– Я за вами часто наблюдаю, вы меня не видите, а я вас вижу. Невероятное сходство… Это ж надо, природа распорядилась… А ботокс, блефаропластику используете?
– Так точно, использую, – отрапортовал.
– Да вы расслабьтесь, не надо по-военному. Мы же отдыхаем, просто беседуем, я не ваш начальник, а просто… ваша копия, или вы – моя, – и складки рта дернулись в намеке на улыбку. – Ну и как, болезненно?
– Пару раз уколы делали и веки подтягивали. Ничего, терпимо.
– У меня по-всякому бывает. Однажды, лет пятнадцать или сколько там назад в Киев на важную встречу прилетел, а у меня синяк на скуле от укола выступил. Пресс-конференцию пришлось отменять, негоже лидеру с синяком перед прессой. Еще подумают, жена побила… Да, Украина… Много мне нервов и крови стоила… Я, знаете, не привык жалеть о прошлом, но все же корю себя: надо было тогда, в четырнадцатом, ударить как следует, захватить несколько областей помимо Донбасса, дойти до Киева, и черт с ними, с санкциями, зато по-другому сейчас все выглядело бы… Сильнейший всегда находит справедливым то, что слабый считает несправедливым… Меня деспотом называют за рубежом. Идиоты, слабаки. Убежден: не существует ни одного живущего человека, которому не захотелось бы сыграть деспота, если он обладает твердым характером. А вы что думаете по этому поводу?
– Точно так же, – не придумав более развернутый ответ, да и не нужно было.
– Ну и хорошо. Единство взглядов. Убеди других довериться тебе – и ты победил. Самый мощный афродизиак – эта власть над другими… А теперь повторяйте за мной.., – внезапно ВВ поменял ход разговора. – Посмотрим, как скопируете меня… Итак, начнем. Повторяйте: ничто так не воодушевляет, как первое безнаказанное преступление…
Яков Петрович опешил, слегка даже растерялся от смысла произнесенного, однако вида не подал и незамедлительно исполнил приказ. Почувствовал, что передал интонацию абсолютно верно, лучше, чем на тренировках у зеркала, на нервной почве, что ли…
ВВ продолжил экзамен, выстреливая разнобойными по смыслу фразами почти без пауз:
– У России нет другого пути, кроме выбранного Россией. Если кто-то не хочет разговаривать с нами на равных – пусть не разговаривает, мы сами с ним будем разговаривать на равных… Некоторым супердержавам, которые претендуют на исключительность, считают себя единственным центром силы в мире, им союзники не нужны, им вассалы нужны. Я имею в виду США. Россия в такой системе отношений существовать не может… Давить на Россию с помощью жестких мер бесполезно и бессмысленно… Мы такая страна, которая ничего не боится… Полная изоляция ни к чему хорошему привести не может. Не забывайте – у нас ядерное оружие имеется… Наша родина, возможно, больна, но от кровати матери не уезжают… Ну, знаете, если все время говорить о том, что все падает, то ничего никогда и не поднимется…
В следующей фразе Двойник запутался, пришлось ВВ повторить ее дважды:
– Возможно, нашему Мишке нужно посидеть спокойно, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками и медком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что всегда будут стремиться, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся – вырвать и зубы и когти. В сегодняшнем понимании это – силы ядерного сдерживания. Как только это, не дай Бог, случится, то и мишка не нужным станет, чучело из него сделают и все…
Яков Петрович воспроизвел, ВВ слегка наклонил голову и прикоснулся указательным и средним пальцами левой руки к ушной раковине – вероятно, чтобы лучше слышать. Он сделал перерыв на несколько секунд, Двойник непроизвольно глубоко вздохнул, от ВВ не укрылось, ободряюще кивнул и вроде даже подмигнул – не дрейфь, парень – и продолжил проверку таким же долгим, развернутым фрагментом когда-то им произнесенного, но уже совсем о другом:
– Самое главное для политика – быть порядочным и честным человеком… Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать вместе, то нас ждёт успех и в отношениях между собой, в отношениях между государствами. Но самое главное, что мы добьёмся таким образом комфорта в своём собственном сердце… И вот еще несколько предложений, повторите для услады слуха. Я медленно буду диктовать, с остановками, а вы произносите не механически, а вникайте в сказанное – не мной, а великим умом и патриотом Ильиным. Не хочу текст замечательный искажать, у меня выписка имеется, – и он достал из кармана куртки сложенный вчетверо листок. – Слушайте и внимайте… “Мировая закулиса, решившая расчленить Россию, отступит от своего решения только тогда, когда ее планы потерпят полное крушение… Они собираются разделить всеединый российский “веник” на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее: план ненависти и властолюбия. …Чтобы вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, достаточно представить судьбу “Самостийной Украины”… Россия есть величина, которую никто не осилит, на которой все перессорятся…”
Яков Петрович повторял, не вдумываясь в содержание, о чем просил собеседник, внимание сосредоточено было на другом – добиться стопроцентной верности модуляциям голоса ВВ, читавшего текст трепетно и почти нараспев, как молитву.
Отталкиваясь от фразы Андре Жида, я слушал Двойника, следил за его действиями; завершив очередную главу, не вполне представлял, что должно последовать дальше – словно наблюдал за происходившим со стороны. Порой диву давался, сколь лихо закручивается детективная спираль, а автор вроде бы ни при чем. И вместе с Яковом Петровичем погружался в атмосферу тревожного ожидания – что же произойдет дальше? К этому времени развеиваются иллюзии Двойника относительно ВВ, чью роль он усердно исполняет. Его настигает глубокое разочарование в том, кому он служит. А дальше лидер страны, которую довел до ручки, …исчезает. В России происходит тихий переворот. На определенное время Двойник становится ВВ, от народа это держится в тайне.
Что бы я чувствовал, оказавшись в его шкуре? Подсказка моментальна – страх. Страх за себя, волею судьбы ставшего главой государства, вынужденно участвующего в грандиозном обмане…
Напрашивалась концовка романа, именно такая и никакая другая.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Сообщения крупнейших агентств мира
Пометка “Срочно!!!”
4 марта 2024 года президент России, подавший в отставку в конце августа прошлого года, принял в своей загородной Резиденции Ново-Огарево специального корреспондента CNN и в самом начале интервью сообщил сенсационную новость: он является не лидером страны, а его двойником. Подлинный Верховный Властелин, правивший Россией почти четверть века, внезапно исчез в конце августа прошлого года при невыясненных обстоятельствах. Возможно, его уже нет в живых. Таким образом, по мнению двойника, назвавшего себя Яковом Петровичем, произошел государственный переворот.
Никаких других подробностей журналист CNN не сообщил.
По новостным телепрограммам десятков стран мира была показана двухминутная запись беседы, свидетельствующая о подлинности признания т.н. двойника.
В ответ на обращения мировых СМИ в кремлевскую Администрацию ее представитель заявил, что о факте исчезновения Верховного Властелина властям ничего не известно и начато расследование.
Связаться с т.н. двойником в понедельник 5 марта журналистам пока не удалось.
“Исчезновение” вышло в свет в Америке и одновременно в Украине (изд. Дмитрия Бураго, Киев) в 2015-м. Кричащая обложка должна была притягивать взоры (так мне казалось): знакомый всем плешивый субъект с миллионными часами на правой руке летит в огонь на фоне зубчатки кремлевской стены. Мы с киевским издателем рассчитывали на успех в продаже. Увы, бестселлера не получилось. До сих пор не понимаю причины. Рецензенты отмечали высокий художественный уровень романа. И тем не менее, продавалась в Украине книга слабо. Безусловно, раскрутка (реклама) была организована далеко не лучшим образом – Бураго признал. Но только ли в этом крылась проблема…
Известный киевский писатель высказал суждение: украинцы не хотят ничего о Путине знать, тем более, читать о нем, настолько он им ненавистен. Посему игнорирование романа вполне объяснимо.
Неужто мой коллега прав?
***
Публицист Семен Ицкович, кому я искренне признателен за критический анализ моих книг, в одной из публикаций, в частности, написал: “Пожелаю автору продолжать вдумчивое исследование российского феномена с тем, чтобы в будущем дополнить два тома его трилогии о современной России – “Террариум” и “Исчезновение” – третьим, назвав его, например, так: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”.
Что имел в виду публицист? Я не спросил у него. Но если то, о чем я подумал… Внезапный уход со сцены кремлевского пахана-долгожителя – можно ли назвать несчастьем для страны и обретением населением счастья? Пожалуй, пословица в этом случае вполне уместна. Вот только поменяется что-либо или все на круги своя вернется…
Замысел окончания трилогии пришел, как обычно, внезапно, сам по себе, что называется, осенило. Попал ли ”в яблочко” или промазал – это станет известно, когда будет поставлена последняя точка. А покамест я в уме строил сюжетные линии будущего романа.
Название книги родилось сразу – “Катарсис”, очищение. Придуманный ход – скармливание сотне добровольных участников эксперимента “таблеток правды” ради просветления в их мозгах и изничтожения всей мути, источаемой в основном телевидением – укладывался в логику развития характеров героев. Я начал писать. И вот что происходило: с каждой новой страницей все туманнее виделась концовка; я не представлял, к чему подвести читателей, возымеют ли действие пресловутые таблетки или окажутся пустышкой?
Я совершенно не управлял героями, их было четверо, двое мужчин, двое женщин, у каждого своя биография, и выкаблучивали они бог знает что, превратив автора в бесстрастного наблюдателя и не более того. Я махнул рукой и полностью им доверился: будь что будет.
…Шел 2036 год, ВВП уже почил в бозе, Славишией (так теперь называлась страна) рулил преемник. “Память о покинувшем страну великом человеке, как принято, решили увековечить: был объявлен конкурс на памятник; в Сети, подавленной ограничениями и запретами, но все еще живой, вернее, полуживой, валом повалили идеи и предложения, однако мнениями пользователей по сему поводу никто во власти не заинтересовался, а зря. Между тем, среди идей и предложений попадались весьма оригинальные, например, отлить фигуру в бронзе со щукой в руке и стерхом на плече; самодеятельный скульптор создал монумент в виде медведя с ликом усопшего, придавившего лапой орла, в виде которого ваятель изобразил внешних врагов Славишии. Кое-кто хотел отобразить спортивные достижения бессменного лидера, запечатленные в кимоно дзюдоиста с заткнутой за черный пояс хоккейной клюшкой. Как бы там ни было, памятник в виде десятиметровой фигуры в бронзе появился на главной площади страны, рядом с Лобным местом. Скульптору удалось передать облик народного любимца, бушевавшие в нем незримо для окружения страсти тайные и безущербные; особенно удалась лукавая улыбка многомудрого отца, исполнившего сполна надежды и чаяния детей малых и неразумных.
Одновременно с установкой изваяния в Славишии выпустили купюры достоинством миллион рублей с ликом бывшего Властелина и памятные золотые монеты, переименовали в память о нем крупный населенный пункт, именем его назвали университет, где он учился, а в городе на болотах, где явился на свет божий, появились проспект и парк его имени. Единственно, не срослось с причислением к лику святых: возникла было робкая инициатива снизу в последние пару лет жизни Властителя, но церковь напомнила, что при жизни в Славишии никого никогда не канонизировали и процесс можно запустить лишь тогда, когда со смерти праведника пройдет как минимум несколько десятилетий; обязательно нужно доказать, что подвижник вел благочестивый образ жизни (последнее требование не обязательно для мучеников, поскольку главное основание для их канонизации – документально подтвержденный факт мученичества за веру). Специальная Комиссия по канонизации также должна собрать свидетельства о чудесах, произошедших по молитвам, обращенным к данному человеку, если таковые зафиксированы. Для прославления подвижника обязательно его всенародное почитание. Тут тоже мог возникнуть вопрос… Важно также и то, что с точки зрения церкви не канонизация делает человека святым, а его подвиг, а что из деяний Властителя отнести к подвигам, а что таковыми не считать – тут мнения единого нет… Короче, ничего с этим не вышло”.
Попрощавшись с ВВП в первой части романа, я продолжил описывать эксперимент, не заморачиваясь концовкой, уповая на то, что кривая (прямая) вывезет. И вывезла. Самым неожиданным образом. Причем, когда внезапно осенившая идея оформилась, я, признаться, был обескуражен. Вот так фортель! Обнаружились мистификация, обман, спецоперация с прослушкой номеров и прочими гэбэшными атрибутами по проникновению в тайные мысли участников. Мысленно поблагодарил героев за подсказку и урезонил себя: не удивляйся – разве могло быть иначе?.. Многое в стране меняется, но только не это…
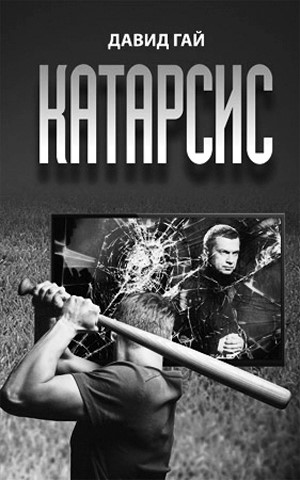 “Катарсис” вышел в свет в 2018-м, пошли отзывы читателей и критиков. И те, и другие оценили книгу по-своему.
“Катарсис” вышел в свет в 2018-м, пошли отзывы читателей и критиков. И те, и другие оценили книгу по-своему.
“Таблетки правды”: реальность или мистификация?
…Роман “Катарсис” весьма увлекательный. Идея в его основе проста и незатейлива: некая организация ставит эксперимент – пытается с помощью «чудодейственных пилюль» просветлить зомбированные мозги населения, выбить из них вату, наделить возможностью начать, наконец, отличать правду от лжи. Действие развивается в будущем, году эдак в 2034-35-м, в некоем “пансионате”, где участники выполняют роль подопытных морских свинок. Поделенные на три группы: “красные”, “черные” и “зеленые”, они находятся под неусыпным оком организаторов. В течение месяца им предстоит испытывать сильнейшее воздействие инструментов пропаганды: видеть специальные программы, слушать лекции, участвовать в семинарах, дискуссиях. Они увидят, услышат и прочтут немало такого, что было под запретом при прежнем Властелине (умный читатель, догадайся сам(а), как звали этого Властелина), – и поэтому их заставляют весь месяц думать и обсуждать вопросы, напрямую связанные с идеей эксперимента. А далее – кто кого одолеет: таблетки – пропаганду или наоборот.
Читается текст как детектив, нагнетается напряжение, строишь догадки относительно финала –возымеют ли действие изобретенные таблетки (ноу-хау ученых Славишии – так в романе названа Россия) или случится нечто иное? А может, пилюли – миф, мистификация, на самом же деле – плацебо? Но тогда с какой целью, зачем дурачат полторы сотни людей… Как в настоящем детективе, развязка оказывается совершенно иной, никак не ожидаемой, во всяком случае, для меня оказалась сюрпризом. Финал “Катарсиса” неожидан, однако интуитивно предсказуем – добром все это кончиться для героев не могло. Тень Лубянки нависает над ними и над другими: выясняется, что номера пансионата прослушивались, а сотрудники спецслужб начинают вербовку. Один из героев повествования идет на публичное разоблачение устроителей эксперимента, его и троих друзей изгоняют из пансионата. Их ждут нелегкие времена…
…Я весь роман читал медленно. Останавливался. Нужно было поразмыслить, сравнить и понять. Моё мнение – обязательно стоит прочитать “Катарсис”. Он не ответит на все вопросы, то уж точно заставит задуматься.
Яков Фрейдин, журнал “Эхо России”
P.S. Пусть не удивляет, что отзыв опубликовал общественно-политический журнал с таким названием. В путинской стране он забанен, его нельзя читать (если только не прибегнуть к определенным ухищрениям). – Д. Г.
Та же синусоида
“Катарсис” замаскирован как сочинение футурологическое: его действие происходит в начале тридцатых годов нашего столетия, то есть почти завтра. Страна названа Славишией. Все имена и названия в тексте мгновенно узнаваемы. Сюжет таков. Большую группу добровольцев привозят в одну из закрытых государственных дач, якобы затем, чтобы провести над ними необычный эксперимент: целый месяц они будут принимать таблетки, позволяющие отличать ложь от правды. К тому же они участвуют в семинарах, где могут откровенно говорить то, что думают, и слушать зажигательные лекции. Кому нужны результаты столь экзотического эксперимента, поначалу неясно. “Подопытных кроликов” обещают щедро вознаградить долларами, и они дают подписку о неразглашении. Обстановка в стране такая, что люди полностью оглуплены средствами массовой информации, и никто уже не в состоянии отличить белое от черного. По всеобщему мнению, враг номер один – телевизор.
Книга написана не ради авантюрного сюжета, а в защиту правды и содержит призыв идти на жертвы ради ее защиты. Этим она отличается от знаменитых сочинений Хаксли и Оруэлла, которые страшны именно потому, что никакого катарсиса не содержат: вокруг кошмар, а все в конечном итоге счастливы. Тень Оруэлла дважды появляется на страницах романа: Гаю надо отогнать ее.
…Русский язык (и, кажется, ни один западноевропейский) не различает правду и истину. Истина существует “на самом деле”, а правда – то, что ей соответствует в нашем сознании. Но человеческому разумению подвластна лишь правда, то есть юридическая сторона истины. Другими словами, объективная истина дана людям в ограниченных пределах, в которых мы в состоянии ее постичь. И правда, и ложь относительны. На эту тему в роман введена обширная притча (с. 139–142). В Средние века правду понимали как то, что можно было установить при помощи свидетельских показаний. Отсутствие таких показаний означало ложь. Мы не слишком далеко ушли от средневекового мышления, разве что не одобряем методов следствия, кстати, и тогда не раз подвергавшихся сомнению.
Выясняется, что «эксперимент» задуман лишь для того, чтобы узнать настроение участников (да кто бы поверил в психотронные таблетки такого рода и согласился принимать их!). Людей разбили на три группы и поместили на разных уровнях, но нам рассказано только о «нашем» этаже. В центре внимания две пары. Мы присутствуем при их беседах и, разумеется, любовных утехах. Все четверо – люди немолодые (особенно один из них) и бессемейные, хотя по разным причинам. Они всерьез думают о том, чтобы не расставаться и впоследствии.
Старший из двух мужчин – писатель, собирающий материал на тему, которую освещать не рекомендуется, но когда-то он опубликовал «патриотическую» книгу о войне с Украиной, и эта подлость годами не дает ему покоя. Главные персонажи хорошо осведомлены о нашем прошлом (частично по опыту родителей и дедов с бабушками, частично по своему собственному) и иллюзий на предмет будущего не питают.
Естественно, таблетки давались для блезиру. Все разговоры и все действия просматривались и прослушивались. К концу “эксперимента” мысли участников, как на ладони (да и организаторы хорошо подготовились), и на участников оказывается сильнейшее давление: сделаться стукачами (причем доносить для начала надо именно на свою пару) или потерять все скромные блага. Четверка персонажей выходит из этого положения не без потерь, но в итоге никто сексотом не становится. Их изгоняют, и они едут домой. Об их будущем ничего не сказано. Их гибель не очевидна.
Людей моего поколения вербовали почти поголовно. Роман обращен не столько в будущее, сколько в прошлое. Я не знаю, всё так же ли службам “безопасности” требуется армия осведомителей. Подозреваю, что пока существует Славишия, сохранится и соответствующая “контора”.
…Меня не покидает мысль, которую я не раз повторял, что многовековая российская трагедия, какой бейджик на нее ни нацепить, тем и знаменита, что движется по синусоиде (тирания – смута – тирания) и никогда не кончается катарсисом.
Анатолий Либерман, журнал “Мосты”, Германия
“Катарсис” без катарсиса
Таблетки правды вам будут давать те же люди, что скармливали таблетки лжи
В самую, что называется, жилу. Да еще с портретом Владимира Соловьева на обложке. Нет, не я, куда мне, американцу, до знаковой фигуры российского телевидения! Хотя прямого отношения к сюжету романа он не имеет – там нет ни одной реальной фигуры, ни одного настоящего имени. А догадки и подставы – на совести читателя.
Действие происходит через дюжину лет от нас, в некотором царстве в некотором государстве по имени Славишия, где проводится экспериментальное выдавливание по капле из его граждан пропагандистской лжи, которая впиталась в их плоть и кровь. Ну, само собой, научить человека правде куда труднее, чем вранью, которому и учить не надо: ложь – язык любви, ложь – язык политики и проч. А то и вовсе безнадега, хотя подопытные славиши принимают пилюли правды и надеются на выздоровление. Мечты, мечты, где ваша сладость? Если даже Б-г блудил свое избранное племя по небольшому отрезку пустыни без малого сорок лет, пока целое поколение рабов не вымерло, а младое, незнакомое, рабства не знавшее, вступило в Землю обетованную. Мы не рабы, рабы не мы? А кто, если не секрет? Кто спорит, раб может сочинять басни, как великий Эзоп, но потому басня и рабий жанр, и прав был Ленин, как к нему ни относись: “Проклятая пора эзоповых речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества!”
| Давид Гай искусно препарирует социопсихологическую ситуацию – с научной скрупулезностью и художественной точностью. И личной страстью, выворачивая сюжет наизнанку: таблетки правды дают славишам те же люди, что скармливали им таблетки лжи. Хуже того, весь этот лженаучный эксперимент проводится под колпаком с прослушкой, вербовкой и прочими левиафановыми прелестями. Типа спецоперации спецорганов. Парадокс? Да сколько угодно исторических примеров! Чтобы далеко не ходить – сталинист Хрущев пытался провести десталинизацию, и чем это кончилось? Ха-ха! Цитирую роман: “Народ у нас хороший, люди – г-но”. |
| Автор возвышается над сатирой, углубляя сюжет в человеческие судьбы. Сердца четырех – четыре хорошо выписанных персонажа, мужские, пожалуй, лучше, что с баб взять. Особенно авторский персонаж – писатель по имении Дан, который сотрудничал с режимом, а потом взбунтовался и задумал книгу, которую талантливо сочинил за него русский американец Давид Гай. “Катарсис”, хоть и без катарсиса. Увы.
Владимир Соловьев, “Независимая газета”, Москва *** |
| …На полях моих книг все меньше остается места для “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”. Хотя второго не так много. Нет-нет и ловлю себя на мысли: как бы хотелось послушать умного, непредвзятого читателя, решившего высказаться по поводу трех моих футурологических книг. Но, видно, не дождусь. Свыкнувшись с этим, я был поражен, когда в середине августа этого года получил по имэйлу (мой электронный адрес есть в журнале “Времена”, который редактирую, его знают многие) текст, подписанный “Людмила Гозун”. Мы шапочно знакомы, она и ее муж Вениамин Шор – читатели журнала, ценители литературы, а Людмила еще и филолог, кандидат наук, преподаватель русского языка в школах Нью-Йорка. Текст касался моей трилогии.
Беру на себя смелость опубликовать написанное Гозун по ее личному желанию и “по секрету” от меня. |
Реальность антиутопии
Утром, как обычно, нажимаю на кнопку Айпада и выхожу на сайт “Эха Москвы”; в эфире научный сотрудник Университетского колледжа Лондона В. Пастухов со своим «особым мнением», ведущий – А.Венедиктов. Приведу лишь небольшой отрывок из диалога:
А. Венедиктов: – Говоря о ваших сравнениях про Олимпийские игры, а что разве в 2024 году на беговой дорожке будет не один человек бежать по всем дорожкам?
В. Пастухов: – … на беговой дорожке будут двое: Путин и его тень.
А. Венедиктов: – “Тень, знай своё место”, – скажет Путин.
В. Пастухов: – Да. Это он попытается ей сказать. Но мы же знаем по Шварцу, что тень иногда шалит.
(“Персонально ваш”, “Эхо Москвы”, 28 июля 2021 г. )
Батюшки! Да это же точно одна из ведущих тем трилогии Д. Гая, посвященной путинскому режиму. В двух первых романах трилогии – “Террариум” (2012) и “Исчезновение” (2015) подробно освещается проблема взаимоотношений Путина с его “тенями – копиями”. (Завершающий трилогию роман “Катарсис” опубликован в 2018 г.) Перекличка приведенного диалога с темами романов Д.Гая вряд ли может быть простой случайностью – бесспорно, тема возможного транзита власти в России становится всё более актуальной. И вопрос не в том, кто первый высказал интересное мнение о соперничестве с Тенью, а в том, что проблема “транзита” не так проста, как может показаться на первый взгляд. Вероятность такого развития событий допускают многие наблюдатели, но мало кто задаётся естественным вопросом: а как может быть осуществлён этот самый “транзит” – с помощью какого механизма и составляющих его шестеренок и колес произойдёт переход из точки ВВП в точку ….Х? Трилогия Д. Гая, как мне кажется, даёт ответ на этот вопрос! И потому настало время заново вглядеться в текст даже тем, кто с трилогией уже знаком.
Романы Д. Гая не просто актуальны, прежде всего – это очень увлекательное чтение! Так приятно погрузиться в легкую игру узнавания: ВВП – конечно, сам Путин, его клон – ну, тут явно намек на Д. Медведева и т. д. И всё же лёгкость узнавания кажется мне обманчивой. По мере погружения в текст усиливается ощущение, что ответы на главные загадки на поверхости не лежат и до разгадок еще далеко, тем более что время, описанное в романе «Исчезновение», всё ещё не наступило, история развивается на наших глазах. Многие предсказания пока рано оценивать.
Преклония – так называется страна, где происходит действие в двух первых частях трилогии, – это не копия реальности, а художественное обобщение: в трилогии, мне кажется, создана художественная модель того сложного механизма, который обеспечивает взаимосвязь отдельных элементов громоздкой государственной машины. Модель эта достаточно универсальна и может многое объяснить не только в путинском, но и в других авторитарных режимах.
Элементы антиутопии в какой-то степени всегда предполагают создание той или иной модели общества. Так, модели социального устройства, описанные в известных антиутопиях Дж. Оруэлла “1984” и В. Войновича “Москва 2042” и в наше время не утратили своей злободневности, а тексты практически разошлись на цитаты. Художественная модель путинской Преклонии в романах Д. Гая, по-моему, выделяется из общего ряда тем, что изображает систему не в статике, а в динамике и показывает сложную траекторию развития общества. Знакомство с этой моделью внушает надежду, что еще есть возможность заменить отдельные рычаги и винтики, не дожидаясь пока проржавевший механизм взорвётся сам, и тогда уже в общем пламени сгорят и водители, и пассажиры.
Создание социальной модели в литературе, как мы сами можем убедиться, читая романы трилогии, нисколько не противоречит законам художественности и образности. Напротив, описание террариума или змеиной охоты – это образы-символы, отражающие суть ВВП и всего режима точнее и полнее, чем иногда длинные рассуждения. Вот лишь небольшая цитата:“Миг, когда пальцы в тонкой кевларовой перчатке сжимали голову змеи, запомнились ВВП на всю оставшуюся жизнь, это был миг высшего триумфа, победы над злым и коварным врагом, офиолатрия, которой, в сущности, ВВП не был подвержен, уступала место ощущению иного порядка, смысла и значения: змея, словно, очеловеченная, превращалась для её ловца в тех всё еще многочисленных врагов, как внутри Преклонии, так и за её пределами, которых он недрогнувшей рукой хотел бы вот так же сжать за горло и почувствовать пальцами их недолгую бурную агонию…”. (“Террариум”)
Главные составляющие государственного “механизма” – власть и народ. Основной рычаг управления обществом – страх, который искусно насаждается с помощью пропаганды и создания образа повсеместных “иноагентов”. Власть играет на самых низменных инстинктах масс , промывает мозги с помощью “зомбоящика”, создает иллюзию благополучия в стране – в общем – “симулирует реальность”. Но в паутине тотальной лжи и коррупции по-своему лишены свободы и властители; сами они уже не могут остановить процесс деградации. Дело в том, что их представление о жизни иллюзорны, ВВП, например, не может поверить в то , что народ не испытывает к нему искренней любви: он потрясен враждебным свистом в спортивном комплексе, его огорчают насмешки и анекдоты в сетях. И при всём самоупоении, по существу, власти сами боятся народа.
Точность предвидения будущего в трилогии поражает: война с Украиной, Навальный в тюрьме, отравления оппонентов, разгром оппозиции, имитация выборов и т. д. “Не все предсказания сбылись” – возразят некоторые. Да, реальный ВВП не погиб в 2017 году в авиакатастрофе. Но и это не ошибка, а как представляется, необходимая деталь художественного замысла. Эпизод гибели как бы предвосхищает возможный вопрос: “А что изменилось бы, если бы ВВП случайно исчез?” Ответ на этот вопрос читатели легко найдут в романе – ведь сущность Преклонии не только в том, что преклонцы всегда готовы покорно склоняться перед любой властью, но и в том, что власть подобна многоглавому дракону: если отрубают одну голову, появляется точно такая же новая – КЛОН, своеобразный – двойник.
И в первом, и во втором романе происходит неожиданное исчезновение ВВП из политического пространства незадолго до выборов: в первом случае – это катастрофа, во втором – вероятнее всего, убийство. Создается впечатление развития событий по одному и тому же сценарию. Мысль о движении России по замкнутому кругу – о некой исторической “матрице” – сама по себе не нова и достаточно популярна среди современных историков. А вот объяснения этому феномену у многих недостаточно доказательны или же вообще отсутствуют.
Д. Гай дает читателям убедительный ответ на вопрос о фатальной предопределенности повторов; позволяет вглядеться в сложное переплетение факторов, которые приводят к историческому застою: народ, привыкший за века войн, лишений и бедствий к рабству и преклонению перед властью, с неразвитым самосознанием и отсутствием критического мышления, живущий «на авось», не наученный нести ответсвенность за свою собственную судьбу, – легко смирился с законами и правилами, при которых государство смотрит на своих подданных лишь как на строительный материал для гигантских и фальшивых декораций государственного величия. Гражданское общество, неокрепшее после правления “маленького рябого вождя”, не смогло противостоять натиску “железных парней” из гозбезопасности – и страна в который раз двинулась по замкнутому кругу формирования очередного авторитарного режима.
В центре сюжета, конечно же, образ Верховного Властителя Преклонии, а литературный портрет ВВП – само воплощение обольстительного зла – столь же губительного, сколь и завораживающего: “…в нем все словно намечено пунктиром…, но через миг исчезает, только что был здесь – и уже нет, перемещается, как будто вовсе не делая движений, стремительная походка танцора и мастера боевых искусств, подтянутая и развинченная одновременно, легкий поклон, полуулыбка, движение руки навстречу – и в тот же миг, как прекрасно отлаженная пружина, чуть откинувшись назад, почти вытягивается по стойке «смирно», становится серьёзным, вслед за танцором появляется в образе фокусника, выхватывающего нужную карту…то ли мелькнувшая фея, то ли моль из шкафа бабушки…”
Постепенно “мираж” и “фантом” превращается в жесткого хозяина, и всё же по мере развития сюжета нарастает ощущение , что ВВП не сильная историческая личность, а лишь Тень прежних правителей, хотя и стремится приблизиться к своему идеалу диктатора.
В трилогии разрушается представление о незаменимости фигуры ВВП в истории страны, – после трагической гибели ВВП в стране ничего не изменится, место Правителя займет клон, именно тот, кто с наибольшей точностью воспроизведет облик и суть оригинала. Но автор неизменно обращает внимание не только на устойчивость системы, но и на неизбежный износ отдельных её деталей, а также постепенные изменения в общественном сознании.
Главным героем романа “Исчезновение” становится двойник ВВП. Клон (роман “Террариум”), заменивший погибшего ВВП, не только внешне был его копией, но также полностью следовал и его политике. В отличие от прежнего клона, “двойник” Яков Петрович (“Исчезновение”) попытается разорвать замкнутый исторический круг тирании и преступлений, сорвать намеченный транзит.
Существование двойников у Правителей факт вполне реальный, вместе с тем для понимания характера Двойника важно также знакомство с его литературными предшественниками. Особенно нагладно родство Двойника с героем повести Ф.М. Достоевского “Двойник”. Не случайно героев зовут одинаково – Яков Петрович. Этих персонажей сближает то обстоятельство, что оба, в сущности, порождены амбициями и страхами своих прототипов. Но если герой Достоевского – само воплощение зла – и приводит к гибели своего “старшего брата”, то герой романа “Исчезновение”, в конечном счете, попытается покончить с тем злом, которое олицетворял его “хозяин”. Он не станет играть роль, предписанную кукловодами, в комедии транзита власти, – роль стареющего и уходящего от власти Правителя; он расскажет всю правду в интервью CNN и скорее всего – погибнет. Но даже в трагическом финале остается надежда на прозрение общества, освобожденного от призрака ВВП.
Для всех, кто всё еще надеется на смену режима в Преклонии, особенно интересна, на мой взгяд, сюжетная линия, связанная с детьми Якова Петровича. Общение Двойника со своей семьёй могло бы показаться дачной идиллией, если бы не острые разногласия с детьми – особенно с “безбашенной”, строптивой старшей дочерью Альбиной и её “хахалем”. Именно Альбинин друг высказал важную для героя мысль: “В.В. – коллективный портрет народа…сами россияне царя такого захотели…” Забота о детях подталкивает Якова Петровича к роковому шагу – он осознает, что обязан сделать выбор между собственным спасением и будущим своих детей. Казалось бы – какое простое решение! Так почему же «другие» до этого не додумались? Ведь есть же среди них и умные, и смелые люди! Но, чтобы ответить на этот, в сущности, такой простой вопрос, стоит, понятно, заново перечитать трилогию от начала до конца.
В заключительном романе “Катарсис” изображено не столь уж отдаленное будущее после исчезновения ВВП. (начало 30-х гг.). Преклонию переименовали в Славишию, атмосфера в стране слегка изменилась: сначала пронёсся вздох облегчения, в первый год запахло оттепелью – “известная организация” как бы отошла в тень, но вскоре начался возврат к прежним порядкам. Вот в этот критический момент и решено было в верхах проводить эксперимент с “таблетками правды”. Эксперимент окажется не просто ложью (никаких таблеток правды на самом деле нет), но и откровенной провокацией, цель которой обнаружить инакомыслящих. Ирония заключается ещё и в том, что сама идея «выправлять» искаженное сознание народа, а не сознание властей, – это по сущесту символ насквозь лживого режима, напоминающего тот, что описан в романе Оруэлла “1984”, когда откровенную ложь называют правдой, а правду – ложью.
В условиях эксперимента сходятся люди с разными взглядами и характерами – Дан, Лео, Юл и Капа, но сквозь непохожие истории и судьбы легко просматриваются хорошо узнаваемые, “родимые” черты и приметы жизни в Славишии; героев, сближает общее понимание тотальной фальши и беззакония, и все же главное – даже самые осторожные из них преодолевают страх. Постепенное прозрение героев – не единственный итог участия в эксперименте, будут и другие интересные повороты в их судьбах , но не стоит забегать вперед и лишать будущих читателей удовольствия самим познакомиться с романом.
Поверьте, трилогия вас не разочарует – для этого много оснований, и всё же главное – художественное мастерство автора: стиль точный и одновременно легкий, глубина и ёмкость характеристик, многогранность образов и выразительность деталей. Кроме того, повествование отличается такой выверенностью в изображении исторических обстоятельств, что порой приближается к документалистике. Но ощущение легкого узнавания реальности – обманчиво, читателю предстоит задуматься над загадками текста – автор точно сфокусировал внимание на важнейших проблемах, нашел нужный ракурс, но читатель должен сделать выводы самостоятельно.
По мысли Аристотеля, катарсис должны пережить не столько герои, сколько зрители представления. Перефразируя эту мысль, можно сказать, что катарсис ждёт того читателя, который даст себе труд внимательно вчитаться в текст трилогии Д. Гая.
P.S. Эссе Людмилы Гозун опубликовано в известном американо-русском журнале “Чайка” (главный редактор Ирина Чайковская).
***
Вот, пожалуй, и все, что хотел бы сказать в этой книге, дерзко заглянув в бесстрастно-холодные “Зрачки зверя”. Некоторые свои работы я сознательно не упомянул – пускай поля этих изданий останутся чистыми: может, кому-то захочется оставить там свои заметки. Я не буду иметь ничего против… А пока – до свидания и спасибо за потраченное на чтение время.
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке