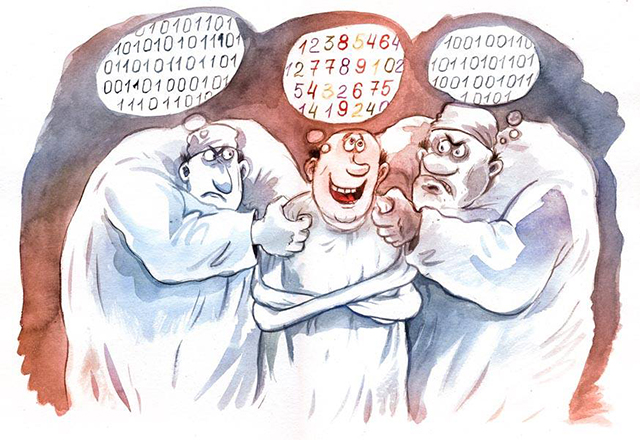КОЛ-ЦЕНТР КОЛ-ХОЗА
Один день из жизни председателя
Чем больше пьёшь, тем больше дрожат руки.
Чем больше дрожат руки, тем больше выплёскивается.
Чем больше выплёскивается, тем меньше пьёшь.
Следовательно: чем больше пьёшь, тем пьёшь меньше.
(логическая цепь Федотова-Герца-jr.)
Ивана Фёдоровича Прохорова назначили председателем колхоза «Путь Фомича» и он стал выпивать ещё чаще, поддавшись чёрной магии молочного скотоводства. Раньше он занимал должность пронумерованного секретаря недосреднего партийного звена, но район не потянул его идеологической фантазийности (не тот масштаб) и прибегнул к скамейке запасных секретарей, умеющих с душой петь блатные песни в узком кругу ограниченных людей. Он ушёл с удовольствием, поскольку не преследовал карьеру и исчерпал все запасы цинизма. Имея патриархальное подсознание, попутно имел и совесть, которая не позволяла ему делать то, что порой очень хотелось сделать. Для того, чтобы что-то изменить в мире, нужно приложить усилий больше, чем минимально необходимо для этого изменения.
Жалел он только о служебных поездках в недружественные страны, где отдыхал от почти построенного коммунизма, сутками не покидая пределов буржуазного номера и снюхивая пудру с девичьих бёдер. В эти сладостные дни женский пол не переводился в его палатах, меняя численность, этнический состав, но не сам пол. Был в наличии круглосуточно. На расстоянии вытянутой ноги. Их ноги. Он любил устаревших школьниц по-русски и плакать не давал, называя себя Евтихием и склоняя к буддизму. Барышням нравился необузданный и щедрый голубоглазый гость, припыливший невесть откуда.
Но скорбный миг расставания всегда наступал. За час до отъезда он выполнял несомый перед Родиной неотвратимый долг: покупал сувениры, замысловатые бутыли с яркими обложками и быстренько делился опытом с местными коллегами по нерушимой партии, бездельниками, добывающими корм мышкованием. Девушки плакали и желали дальнейших буйных встреч.
Новый железный солдат революции, товарищ Буриданов, бесцветной благонамеренной наружности, препокорнейший подкаблучник Мижуев, органично влился в романтическую должность, обладая мимикой автомата по продаже газет и интеллектом машинки для надувания шариков. Он знал много всего, но не до конца, увлекаясь пайкой металлических прутиков. Он не ведал ничего обо всём и даже больше. Согласно партийной доктрине излагал глупости уверенным тоном, в ораторском кураже бойко громыхал «играет значение», «имеет роль», без сомнения употребляя вместо слова «опять» привычное «обратно», и ничто не могло поколебать его в непримиримости к литературным нормам родной речи. Русский письменный осваивал с трудом и только высунув несвежий язык. Его цельная натура была убедительным доводом в пользу строгого контроля за рождаемостью. Сын Павлика Морозова общей юрисдикции с мелким налётом крупного засранца, несомненный кандидат на дальнейшее повышение по службе. Один из унылого ассорти бонз новейшей истории. Логарифм единицы. Таких можно убить только рельсом.
Иван Фёдорович же обрёл дополнительное лицо, прилежно расчёсывая старорежимные бакены до состояния пуховок для косметических наборов, и приступил к обновлённым занятиям, плюнув на предыдущих не тонких людей и стараясь не повторять ошибок своего предшественника, который крепко обронил лицо перед страной: выйдя ночью в огород с целью культурных корнеплодов, вернулся домой лишь через неделю, в испанских джинсах и трижды разведённым гражданином Австралии, после чего был срочно вызван в Москву, откуда уже не вернулся.
Когда-то наследное хозяйство было богатым: белый памятник вождю, конопляное поле, камыши, зажиточное здание милиции, три вытрезвителя и больница, вредная для здоровья, с асфальтовыми пломбами и немытыми полами, рожь колосилась, чечевица чечевилась. Потом стало похуже. Немногим лучше, но другим. Вождя пропили, поле скурили, камыш ушёл на многопраздничные свистульки, по наклонности мыслей похмеляться стали сами, эскулапов дезавуировали, а от органов правопорядка остался только пожилой карьерист-майор на мопеде, дворники-альбиносы и румяный поросёнок Борис. Люди умеют быть жалкими, когда захотят.
Новый председатель не был классическим с точки зрения деревенской прозы «кряжистым мужиком» с большими шершавыми ладонями-лопатами, а был напротив — высок и строен. И даже изящен. С руками пианиста. В юности служил на Северном флоте, где обрёл дисциплину труда и отдыха, страсть к папиросам и был затянут в мрачный омут партийной жизни. Потом вернулся в родное сомнительное черноземье, заимел статус и стал его возглавлять, искусственно задирая градус торжественности проводимых мероприятий и восстанавливая прошлую растительность методом поливания. Характер имел пытливый и весёлый, хотя и был плотно женат.
Потом, как водится, прошли годы. Жена умерла, сыны разъехались и он получился в одинаре. Наедине с колхозом как с судьбой. Впрочем, помимо колхоза у него были Соломониха и иссиня-чёрная кошка Сиська, слепая на один глаз из-за повышенного уровня женственности в поведении.
Соломониха работала в колхозной библиотеке, заполняла формуляры и распределяла советы заинтересованным барышням что почитать из жизни про любовь. Муж её, обожаемый всеми ветреный Соломон, как-то по пьяни попросил политического убежища в соседнем посёлке городского типа и перестал вертаться на базу, а брошенка царица Савская с удовольствием перешла на русскую классическую прозу, где у всех всё плохо, впадая временами в романтическую кому.
Ваньку она любила всегда, но во время мужа соблюдала нравственность, не расслабляя чувств внебрачной воинственностью. Потом, конечно, открылась. До возможно неразумных пределов, подсмотренных в срамных буржуазных фильмах из врачебной жизни и быта жилищно-коммунальных работников.
Милое должностное лицо ночевало у неё пару раз в неделю, создавая мужской уют среди семейного очага и питаясь домашней пищей с гарниром из картофельного пюре, украшенного островерхими барханами. Ваньке бедовая чтица тоже нравилась: на ней задорно играла юбка, она не склоняла его к переезду и не бранила за пьянство, входя в положение, а её бюстгальтеры цвета морской волны теребили его глубинную молодёжность, будоража воспоминания о советской власти.
Сиська была посвободнее временем и отношения с ней носили более изысканный, философский характер. Они вели беседы, способные расшатать любой общественный строй и затрагивающие народный эпос и классическую философию в свете телевизионных новостных программ.
— Видишь ли, дорогая, даже при столь близком и давнем знакомстве меж нами нет обратной связи. Как у нынешнего государства с нынешним же народом. Наше общение заключается лишь в том, что я поставляю к твоему столу продукты питания, а ты делаешь коварный вид, что любишь меня, хотя и шастаешь ночами с посторонними особями, нарушая куртуазность поведения. И это всё. Мыша завалящего не приволокла в дом за всё время, хоть как-то материализуя свою благодарность, если она, конечно, имеется. Ты ж не лягушка безродная на иждивении трудового царевича, понимать должна. Во мне же не корысть разговаривает, а желание существовать на паритетных началах. Желание создать совместную будущность. И это надо рассматривать как цель, к которой надо стремиться, а не как антибольшевистский метод самоуспокоения. И не надо называть меня занудой только потому, что я говорю правильные вещи.
Сиська каждый раз по-женски отмалчивалась, ложилась на живот и складывала лапы «муфточкой». Против такой бесстыдной позиции Иван Фёдорович не мог устоять никогда и малодушно, совсем не педагогично отрезал полтора сантиметра крупной в диаметре колбасы, рвя её привыкшими пальцами на мелкие фрагменты, удобные для дальнейшего животного потребления. Серьёзного разговора не получалось. Слаб был председатель. Слаб и добр. У него было большое сердце. Как у горы.
Нынче одинокую вечернюю трапезу следовало завершить не затягивая: с утра в кол-центре обязательная сходка, посвящённая промышленному использованию пустынь и влиянию цифровой экономики на квартальные удои. «Хоть бы кто нас купил!», — думалось в такие минуты председателю, и даже загадочно-бодрый термин «кол-центр» его не радовал. Неведомое доселе словцо в хозяйство завезли городские школьники, возжелавшие в пьяном виде позвонить в Гватемалу. Их, от греха, пристроили в комнату правления, где действительно стоял чёрный эбонитовый аппарат, по которому, не исключено, заказывали пиццу ещё лидеры зачинающегося колхозного движения. Людям слово понравилось и они оставили его себе, воспринимая диковинный неологизм на слух.
Водки оставалось на два раза. У него была своя, годами выработанная норма: большая и маленькая, бутылка с чекушкой, «мама» с «дочкой», как говорят интеллигентные люди. Не больше, но и никак не меньше. Возьмёшь две – много. Утром тяжело решать государственные задачи и не всегда удаётся угадать, где проснулся среди пустых папиросных коробок. Одну – мало. Опытный и близкий по духу организм не обмануть. Он нежно чувствует творческую неудовлетворённость патриота и зовёт к новым затруднительным и непредсказуемым свершениям. А семьсот пятьдесят – в аккурат. Норма. Ни потрясений, ни бурь. Жизненная проза. Никаких сомнительных знакомств и бросаний лобстеров в оркестр.
Закуской Иван Фёдорович не промышлял, особо сильно не обожая съестное. Употребив сытный с горкой лафитник, малое время «дышал над хлебушком» и сразу закуривал, перебивая запах сивушных масел ароматом доброго табака.
Время и граммы миновали быстро. Под окнами бродили нищие граждане нового богатого государства…
Кол-центр – большая комната, заставленная без всякого порядка и умысла пыльными скрипучими стульями. Когда-то элементы меблировки образовывали стройные идеологически выдержанные ряды, но из-за постоянной полемики разбрелись как попало.
На измазанных густой некрасивой краской стенах висели портреты. Все, что нашлись в подсобке. Без остатка. Бородатые классики марксизма не гнушались обществом господ в служивых сюртуках, древних полководцев топлес, красивого Чехова с умным нездешним лицом и плакатов «Все на выборы!», выполненных в блёклых тонах нынешнего гражданского общества.
В качестве входа кол-центр имел высокую худую дверь, ключ от которой имелся только у председателя. Дверь закрывалась редко ввиду полного отсутствия замка. Его вывернули иностранные агенты и поменяли на оконную замазку.
Поздними вечерами здесь можно было встретить местных юношей и девушек с нерешёнными жилищными проблемами, желавших цивилизованного уединения без лесных животных и насекомых. Именно в этом уютном помещении лишались невинности лучшие девушки микрорайона. В кол-центре справлялись также именины, дни рождения, дни аванса и получки. В такие особые частые дни стол президиума кишел доступными яствами, играла эстрадная музыка и происходили танцы. Иногда даже «белые», вызывающие приступы пасадобля и размытые видения из разноцветных шёлковых лент и упитанных кукол на свадебном капоте прокатного автомобиля. Грустный карнавал без перемены костюмов.
Народу в помещение привалило изобильно, хоть и рядовое рабочее утро. Коловращение людей. Свыше тридцати девяти человек. Что такое кворум здесь не знал никто, поэтому он был всегда.
Все более или менее находившиеся в зале люди двигались неспешным шагом и безнадёжно зевали, посильно проявляя безропотное негодование. В углу комнаты стоял гвалт. Там рассматривали смастерённый самокат и обучались навыкам уметь строгать. Заинтересованные лица с цинической сценической усмешкой облепили колёсное изделие со всех сторон, включая ближний воздух. Никто не мог толком пошевелиться от волшебства этого чуда и картины искусства, трудящиеся лишь метрономно качали головами в положительном смысле.
Кто-то со звуком отпил жидкость, выказав эмоцию и распространив веселье. Из людей прошелестел гул. Автор самоката немного выдохся с похмелья и стал ощущать себя скверно от предчувствия флюидов набегающего творчества. Неначавшийся разговор прервали корабельные склянки. Взлетела большая тяжёлая муха.
Неправильно создавшуюся ситуацию дополнил зоотехник. Только у него в колхозе были неизменные константы, но от него это скрывали. Он стал что-то проверять внутри больного, похлопывая того по бокам, и смог не навалять дров, не приемля общественные людские места. Очень несколько ближайших граждан стояли и надеялись на лучшее, опасаясь гибели человеческих жертв. Подопечный конструктор почувствовал себя частицей дружеской заботы и нехотя ожил, обхватив голову некоторыми руками и образовав лёгкое движение в воздухе, не скрывая любопытства даже в интеллектуальном одиночестве.
Пора было зачинать совместный саммит (тоже хорошее городское культурное слово). Прозвучал гонг, напоминающий звук гонга. Все скучно расселись и Иван Фёдорович вышел на невнимательную трибуну, погрузившись в эстетически убогий мир партийных съездов.
— Прошу свидетельствовать ближе к событиям, — начал он.
— Будем продолжать вести себя, используя опыт прошлого и позапрошлого. То есть красиво. А в наше время, которое не бывает лёгким ни в какое время, практичность это и есть красота. А прогрессу края нет.
Начало было традиционным для всех собраний. Повестка дня значения не имела. Никто и никогда по преамбуле не мог угадать тему обсуждения и по какому поводу согнали народ. Должна быть в собраниях какая-то загадка. И она была.
В председателе проснулся недружелюбный мозг партийца без подпольного стажа. Он ещё минут десять подчёркивал престиж Родины, а потом сник, благословив ударный труд слабоумных людей. Семантического насыщения не произошло.
Все молчали. Не просто так молчали, а молчали специально, обнажив поверхность протеста. Потом закурили и перешли к безоговорочным прениям с натруженных бездельем мест.
— Простудили тут всех, козлы!
— Не увеличивай энтропию!
— От чего умер Гюстав Флобер?
— А он умер? Вроде крепкий был мужик.
— Это не есть мировая константа!
— Сука, Млинский!
— Когда Тарантину привезут? Все смотрят, а мы нет.
— Чапаева смотри, умник! Всё равно пьяный каждый день.
— Я-то посмотрю. А вот откуда у тебя железо в сарае? Его где-то сильно не хватает теперь.
— Простудили тут всех, козлы!
— У вас лишних ботинок не найдётся?
— Свободу Сизифу!
— Перестаньте переходить на личности!
— Надо достигнуть этой задачи!
Иван Фёдорович понимал, что отпустил от себя народ и, взяв инициативу, хотел снова возглавить ситуацию. Но не смог. Ему было скучно и препятствовали юзившие через дверь многочисленные люди с дурными намерениями выйти вон. Совсем размагнитился народ. Вышёл из узды.
— Не роняй дар командной речи, начальник!
— Простудили тут всех, козлы!
— Засунь это сам знаешь куда!
— Куда? Откуда такая убеждённость, что все знают куда? Почему не допускается вариативность направления?
— Даёшь контрольный откорм свиней!
— Слушать умников дураков нет!
— Подай манто, лиловый негр!
— Где флорист Фрол?
— Увидишь трактор – крестись, паскуда!
— Раз-два, туфли надень-ка, Наденька! Как тебе не стыдно?
— Седьмой созыв свирепствует!
— А как у нас с деньгами?
— Простудили тут всех, козлы!
— Ганг! Воды твои замутились!
На улице летняя погода как-то потемнела. Казалось, что с крыши одеяльно свисает снег. Иван Фёдорович давно через силу проявлял силу воли: много раз уже он мог выпить казённой водки под трибуной, но не выпил ни разу. Водка – табельное оружие председателя. Он берёг патроны.
Прения продолжились в прежнем объёме. Докладчик взял верхнее «бля», но события всё равно развивались. А чего им не развиваться-то?
— От улыбки станет всем светлей!
— Пятилетку в десять лет!
— Откуда у хлопца испанская грусть?
— Простудили тут всех, козлы!
— Нихрена из дома пишут!
— Хватит лакировать действительность!
— Так ли уж необходимы для музыки музыканты?
— Давайте проводить свободное время!
— Кто был в Горловке?
— Никто нигде не был.
— Зря! Бардак там будь здоров!
— Откуда всё берётся?
— Не надо нам запрещать!
— Где простуженный?
— Докажите суффикс косинуса!
— Хорош, импрессарио!
— Пиши, начальник, всё скажу!
— Позвони мне по-французски, позвони!
Колхоз «Путь Фомича» населяли образованные люди, знающие толк в дискуссиях и обладающие подробными сведениями из различных областей человеческих (в том числе) знаний. Многие из них даже неожиданно стали верующими, но как-то без задора, продолжая совершать прежний образ жизни.
Неосознанно загруженный Иван Фёдорович горько задумался о продолжении планового мероприятия, но подъехала продуктовая лавка и все ушли. Образовался детектив «Гамлет». Занавес упал, и на сцене не осталось никого из живых людей. Вышел и пока ещё живой председатель, мысленно навесив замок на шаткую дверь этого притона соцреализма.
На воле была погода. Она попадала прямо в лицо, тревожа одноуровневую белёсую причёску. – Люди перестали ходить в гости и со времён Ивана Грозного так и не научились улыбаться, — подумалось ему практически эпически. – Наступило повсеместное одиночество, а окружающие только сильнее подчёркивают его. Когда человек сражается с леопардом, а вокруг куры, он никуда не может убежать.- Вдали показался ничей мальчик с большой диванной пружиной.
Поднимая свежепахнущими сандалиями повседневную пыль, Иван Фёдорович оказался у магазина. Внутри было пусто. В магазине тоже. Весь народ стоял за передвижной едой, поменяв локацию. Прилавок радовал белым, красным, консервами «Частик» и искусственными цветами в шумном целлофане, стоившими освежающе дорого.
Легко одетая продавщица Липа, похожая на Газпром (мечты сбываются) располагалась в свободной позе и совершенствовалась с барбарисками, принесёнными из дома. Когда-то давно, во времена шапок похожих на волосы, у них с председателем был продолжительный получасовой роман в комнате отдыха, где показывали парусную регату.
С тех пор девушка крепко уважала Ивана. За мужескую доблесть, за то, что даже в пьяном виде не болтал о случившемся, за порядочность и тонкое понимание никому не понятной женской души. Она оказалась способной полюбить мужчину, который однажды её бросил и ощутила прилив бывшего романтизма, вспомнив, как её длиннющие серьги, словно маятники, качались, подрагивая, в такт их неожиданной любви. Вспомнив всё остальное, Липа даже закурила и стыдливо опустила глаза. Хорошо было!
Некурящая женщина с сигаретой выглядит очень трогательно; наличие эмоций для неё так же важно, как и их отсутствие.
В жизни «председательница оргий» была горяча, хотя поначалу имела злобное намерение пойти под венец девственницей. Но вовремя одумалась и стала дарить людям радость. Потом окончила фельдшерские курсы и, познав жизнь, могла угадать любую болезнь. Своими объятьями могла легко вскипятить чайник. Её пытались по-быстрому выдать замуж «за хорошего человека», но узрев потенциального супруга вблизи, Липа ушла в торговлю и стала коллекционировать маленьких белочек из глины.
Потом в её жизни появился свободный и вроде бы положительный мужчина, но не сложилось и с ним: нельзя же жить с человеком, который, работая на сахарном заводе, продолжает покупать сахар. После такого невезения девушка подалась во фриланс.
Было время я давала
В парке на скамеечке.
Не подумайте плохого:
Из кармана семечки.
Иван Фёдорович с морального устатку спросил две больших, желая ввечеру достичь окончательного совершенства. Завтра готовилось быть непростым. Теперь он неделю не будет покупать водку. Следует по ней поскучать. Алкоголизм – ремесло, передаваемое от отца к сыну. Но ванин предок почти не пил, не любил. Председатель тоже поначалу избегал, но случалось, и он стал первым в династии. Для контроля себя отмечал в календаре дни, когда выпивал. Получалось черным-черно. Поменяв тактику, стал отмечать трезвые даты. Календарь – как новый.
Липа заботливо, с нежностью и пониманием протёрла бутылки от несуществующей пыли подолом, высоко обнажив привлекательные ноги, и вручила их новому хозяину, на всякий случай «сделав глазки». «Глазки» не прошли, женщина взгрустнула и продолжила топить горе в дальнейших барбарисках. Штучный отдел скорбил, безмолвствуя.
А тем временем колхозный голова, вдохновлённый негоцией и наполненный горечью и идеалами одинокой жизни, входил в отчий дом – начало начал. Одинокие люди ходят быстро. «Путь Фомича» временно осиротел без основополагающего перста и высочайшей цели. Это не было бедой ни районного, ни местного масштаба. Ведь у колхоза нет цели. У колхоза есть только путь.
В парадной зале было уютно. Сиська валялась на диване и ничего не делала, лишь иногда кокетливо выпуская полупрозрачные коготки. Предметы различных степеней необходимости располагались в объёме помещения хаотично. Ему нравилась такая эклектика – не боишься нарушить существующий порядок, или испачкать что-нибудь кому-нибудь нужное.
Жил он неплохо: кашпо, аккордеон-четвертинка (не путать), одинаково серые аквариумные рыбки в банке (он нервничал, когда видел разноцветных рыб), стол, покрытый шторой, часы с постаревшей кукушкой.
В «Хельге», за стеклом, хранился альбом для марок, перевязанный круглой в сечении резинкой «венгеркой». Вместо марок там находились ласково отпаренные этикетки от спиртосодержащей продукции, испробованные им лично собственной персоной. По этим глянцевым бумажкам он вспоминал лучшие годы своей жизни, когда праздники переживались не так тяжело. Юность всё реже напоминает о себе здоровым похмельем.
Потом он узнал, что альбом для марок по-научному называется «кляссер». Новое зарубежное слово прижилось, легло на́ душу и с тех пор он блистал им везде и без устали. Громко. С пафосом. Даже с вызовом: «Кляссер!». Закономерных блюдец в серванте не было. Питьё из блюдец ушло. Они стали пепельницами.
В углу стоял огромный мешок и никому не мешал. Иван Фёдорович помимо прочих имел и некоторые аксессуарные слабости, коими сельские жители грешить вроде бы не должны: носки, трусы и носовые платки, закупаемые всегда, везде и помногу. В тяжёлую годину он вполне мог бы открыть мужской ларёк по интересам.
К приобретению носков он подходил фундаментально: помимо разовых покупок он регулярно совершал столь любимые высоким начальством половецкие набеги на магазин, где приобретал одинаковых изделий пар сто и больше. Сколько было в лавке. На неинтересные вопросы отвечал коротко: «У меня большая семья». Предпочитал традиционные чёрные, без выкрутасов. В магазине его знали только с хорошей стороны.
Носки он стирал один раз. Потом выбрасывал в ожидании свежих поступлений. Иногда он перебирал носки, выуживал из мешка и сортировал по степени линялости (как при партийном отборе, только наоборот), образуя в меру могучие кучки. С ним происходила вселенская житейская умственность. Носки за это свято чтили эмпирический закон парных случаев. И правильно делали.
Цивилизация глубоко проникла внутрь его бытия: на тумбе красовался шариковый дезодорант, а в фанерной галошнице бригантинно расположились нарядные ботинки с задранными носами. В телевизоре преобладали континенты, регионы и постановочная ругань с участием местечковых хамоватых личностей полусвета, которых в международном медийном пространстве не видно и в микроскоп.
Во дворе собаки, гуси, утки и деревья хвойных и лиственных пород. Иногда навещает вежливый аист. Председатель — чисто лесничий, наслаждающийся зрелищем природы. На задках сарай с нарядно-чёрным трофейным «Хорьхом». Машина красива, ухожена, лоснится от европейской потенциальной энергии и блестит от избытка мужских гормонов.
Вся живность и растительность носят имена собственные. Нередко приличные. За ними ухаживает хромой сосед Трофимыч, ветеран спасения на минеральных водах, рихтовщик со сморщенной формой глаз. В пожарной каске, футбольных гетрах студенческого общества «Буревестник» поверх немарких штанов и рубахе спартанского цвета с закатанными выше локтя рукавами. Слывёт умельцем. И недаром: для ивановой калитки он самолично выстругал из берёзового полена ромбовидную щеколду. Без единого гвоздя.
На чердак ведёт шаткая лестница без перил. Узковата – хрен чего путного вынесешь. Иван хаживал по ней редко, предпочитая проводить неумолимое время в партере. Наверху ютились лишь далёкие конспекты по теории заговоров и его чехословацкое полушерстяное пальто, побывавшее модным уже три раза.
Но недостатки образа жизни, конечно, были. Не без этого. В помывочной, например, кран над раковиной слегка выступал за край самой раковины, что во время включения коммунальной услуги придавало интимному помещению дополнительный колорит древнеримских терм. За всем этим угадывалась рука Мастера. Заслуженного Мастера. Больше изъянов не было. Да и это крохотное несовпадение интересов не было столь уж трагичным для бывалых колхозчан, а со временем даже грозило превратиться в достоинство.
Иван сноровисто сгрёб пустую посуду в угол светёлки и вокруг наступило благостное одиночество. В телевизоре давали уже другие убогие сведения: бенефис начальника, ставшая уже привычной битва энтузиастов с профессионалами и крутёж колеса с подарками. Будто и не было прошедших десятилетий. Но всё равно стало хорошо. Одиноко и хорошо. Одинокий человек не может быть никем покинут.
Он воспринимал жизнь как производственную пьесу средней руки. И не любил родственников. Особенно собственных. Он не был создан для семьи, для кухонных в розовую полоску занавесочек, каравана крохотных кактусов на подоконнике, прибитых к стенам ковров и гобеленов с хмурыми незагорелыми богатырями.
Он мало кого любил и сам был мало кому нужен. Как-то по весне ушёл в недельный запой, никто даже не заметил. А показатели продолжали расти. У него был толковый бухгалтер. Который видел результаты своего труда.
А в запое ему нравилось. Между вторником и апрелем было легко и замечательно. И никого из посторонних. Профессиональный запой – это самоубийство без летального исхода, это вереница непрерывных трансатлантических перелётов на Конкорде: смена попутчиков, часовых поясов, климата, государственного строя. Ты свободен и маршруты выбираешь сам.
В запое все запреты под запретом. Происходит непоправимая красота души. Открываются новые внутренние горизонты, и хочется выучить наизусть все человеческие имена в мире. В запой можно не брать ничего, кроме водки, папирос и широты взглядов. Можно пропить входную дверь, телевизор, холодильник, кухонную плиту и очнувшись, увидеть, как незнакомые люди отколупывают твой дубовый паркет, деньги за который ты благополучно потратил ещё третьего дня, испытывая лишения в достойном финансировании проекта.
В запое начинаешь остро ощущать, что на свете нет ничего гаже увядших жопок от огурцов и помидоров на металлических подступах к ребристой раковине. Попробуйте летать запоями воздушного флота. Это всё равно лучше, чем циркулем в глаз.
Он всю жизнь стремился к мятежу и комфорту, а в итоге не пришёл ни к тому, ни к другому, прохаживаясь по задворкам жизни с гусём в корзине, не веря в мировую революцию и починяя обувь электродуговой сваркой. Канта кантовал, Фейербахом баловал, а хотелось проводить время в обществе стройной мулатки с высшим медицинским образованием, небрежно сдувая сигарный пепел с белоснежной сорочки.
Хорошим человеком был Иван Фёдорович, даром, что всю жизнь при должности. Он принципиально отличался от нового объединённого единого и единственного «партсмена», профессионального бездельника, какого-нибудь бывшего зам. зав. отделом ватных палочек провинциального горкома комсомола, снующего по карьерной лестнице в виде уютного пиджачка, висящего на идеологически правильных «плечиках». Этот самозабвенно врёт, боясь уступить в лояльности конкурентам, находясь в непрерывном книксене, подогнув правую ногу под левую. Ему не важно, чем руководить, лишь бы руководить. Подойдёт любой «институт политических исследований» с мудрёным названием, в котором штатным расписанием предусмотрен только он, секретарша и письменный стол. На феноменальную пустоту речей это не влияет. Он хочет в телевизор и на радио, чтобы косноязычить по любым событиям, поворачивая логику вспять. По каким скажут событиям. Ему всё равно. Он, с дипломом физкультурного техникума и квалификацией клейщика афиш, считает себя экспертом по всем вопросам: хоть про футбол, хоть про вирус, хоть про космос, хоть про морское право на Тибете. Он тискает статейки в журналы для домохозяек про «кругом враги» в надежде обрести статус лауреата премии «Деревянная самописка Антарктиды». Это новая самоназначенная «элита», путающая «надысь» и «давеча». Агрессивная, вороватая. На словах безгрешная. Только что по воде не ходит. У них чёрный – это тёмный оттенок белого. Они знают цены, но не ведают ценностей. Они не раскачивают лодку, он хотят на борт. Наша солянка всех сборней! Наш пьяный – самый трезвый в мире!
Не таким был председатель, наблюдающий своевременный падёж колхозного солнца за горизонт. В его колхозе тоже есть небо. Личный синоптик грациозно уткнул нос внутрь себя. Должно похолодать. Хотя зачем ему знать что-то о погоде? У него есть драгоценное спокойствие.
В окне проявилась Луна из чистого серебра. Это, наверное, из-за того, что наступила ночь. Так бывает. Приглуши ночью свет, и жизнь станет ярче. Вокруг будет таинственность. Ты увидишь танцующие гладиолусы и слепых лётчиков с синдромом удвоения Моберга, гоняющих по оранжевому воздуху бумажные аэропланы. Грань между мечтой и реальностью станет не такой явной. Идеалисты всегда находятся в разладе с окружающим миром.
Позвонила любимая. Щебетала колокольчиком. Ей стало тревожно. Опять. Он разговаривал уважительно, не растратив в пылу прошедшей жизни почтения к старикам и женщинам. Обещал сначала убить, потом жениться. Любимая осталась довольна перспективой. Золотая женщина. Яхонтовая. Но всех добрых людей ждут испытания. Каждого.
А на ландшафте подшофе замечательно. Можно поговорить с соснами, приобнять ночную птицу, ударить кулаком забор. Но в доме однако ж лучше. В доме напиток и имитация свободы. Свободы под присмотром.
Луна канула и, не заметив как это случилось, Иван Фёдорович уснул, нечаянно выпив за Хендрикса. Русские матросы слушают Хендрикса, а не Бони М. Под утро он проснётся с виноватым и растерянным видом, словно высаженный на полдороге безбилетник. Доберёт предусмотрительно оставленную водку и снова рухнет в чуткий и тревожный сон глубоко пьющего человека. Завтра будет новый день. Новый день старой жизни, в которой он постарается стать лучше. Хотя стань он лучше – было бы чересчур.
С улицы неслись игуаньи песни сограждан. От праздности они завели привычку к хорошей жизни, которой никогда не жили.
ГОРОДНИЧИЙ. А Прохоров пьян?
ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Пьян.
ГОРОДНИЧИЙ. Как же вы так допустили?
ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. А Бог его знает…
(Н.В. Гоголь. Ревизор. 1836).
***
Александр Бунин
Рисунок художника Игоря Варченко
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке