
Об авторе
Ольга Балла (Гертман) – журналист, книжный обозреватель. Родилась в 1965 году, окончила исторический факультет Московского Педагогического Университета. Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила», редактор отдела критики и библиографии журнала «Знамя». Автор книг «Примечания к ненаписанному» (тт. 1-3, USA, Franc-Tireur, 2010), «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016), «Время сновидений» (Совпадение, 2018), «Дикоросль: две тысячи девятнадцатый» (Ганновер: 7 искусств, 2020), а также многих публикаций в бумажной и электронной периодике. Лауреат всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019).
Пять поэтических книг
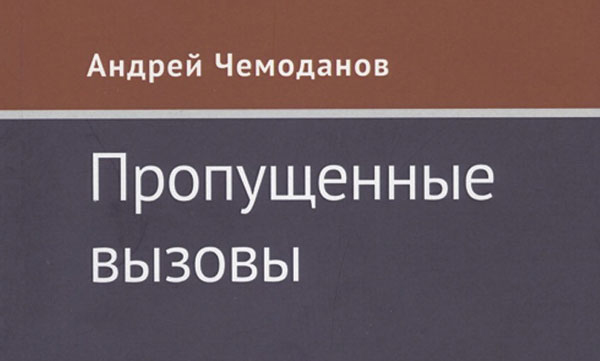
Андрей Чемоданов. Пропущенные вызовы. Стихи 1993-2019. – М.: Воймега, 2019. – 208 с.
Книга избранных стихотворений Андрея Чемоданова за двадцать шесть лет – примерно за половину жизни – читается как связное повествование, как роман. Есть, конечно, соблазн счесть этот роман автобиографическим, – большинство этих текстов написано от первого лица и как будто в автобиографичности нас и убеждают. Но есть и смысл быть всё-таки осторожнее и говорить о герое (вполне лирическом) этих стихов и о том, чем он производит сильное впечатление – а он его производит. Разумеется, отчасти (возможно – от большой) это ролевая установка. Но какая!
Первое, чем он поражает, – это удивительная, внимательная и без иллюзий нежность ко всему сущему – ко всему, а особенно – к неказистому, изношенному, усталому, случайному, мелкому, неудачному, не попавшему в цель или вовсе никогда её не имевшему. К малым вещам мира, которым – как и герою-повествователю – зябко на ветру мира: «проветренные комнаты / захлопнутые форточки / несмотанные удочки / разбитые термометры / протёртые очки». Чувство драгоценности всего этого. Родства со всем этим. И честное признание своего неудачничества, – без всякого утешения, без всякого стремления казаться лучше, значительнее и т.п., чем получается. Без страха быть смешным, нелепым, уязвимым, отвергнутым. Хотя с глубокой горечью от всего этого.
В своём почти (или не почти) религиозном смирении он видится очень родственным Веничке «Москвы-Петушков», только пафоса у него ещё меньше. Совсем нет. Внимательный к малому, он открыт бездне – только вслух этого не говорит.
Да, от первых страниц книги к последним герой, конечно, меняется. Но не радикально, не по существу, – скорее в способах выражения. Он делается суше, горше, застенчивее. Иногда – напоказ – он притворяется циником (должны же быть у человека какие-то способы защиты). Но это у него редко и неубедительно. – ну, то есть, убеждает не в том, в чём (наверное) хотело бы убедить. Не в циничности говорящего этими стихами, а в такой нежнейшей его ранимости, которая у многих с возрастом проходит и на которую вообще не всякий отваживается.
По видимости простые (а то даже нарочито-простые), эти тексты полны культурной памятью, скрытыми цитатами, прочно вросшими в плоть поэтической речи («я умер ради красоты но только в землю лёг / сосед спросил меня а ты / за что подох как лох»). И да, это пронзительная лирика.
когда нас души скинут как пальто
когда нас упакуют в целлофаны
когда проникновенное ничто
нас поцелует как не целовали
когда как будто нечего менять
когда вокруг воспламенится ящик
ты обжигаясь выхватишь меня
сгорающий спасающий горящих

Евгения Вежлян. Ангел на Павелецкой. – М.: Воймега, 2019. – 88 с.
Критик и теоретик литературы Евгения Вежлян, работающая в поэзии давно и известная как поэт ещё с середины девяностых, наконец выпустила первый сборник своих поэтических текстов, в который вошли, по словам автора, стихи, написанные «в разные годы XXI века». Отобранные, видимо, очень жёстко – в книге нет и сотни страниц – и, значит, показывающие нам автора так, как она сама видит и себя, и свою работу в поэзии.
Эти стихи – безусловно, разновидность мышления, – особенный его способ, передвижная лаборатория смысла. Они – форма самоотчёта, самонащупывания, прояснения себя и мира: как будто сиюминутные (нет ничего более всевременного, чем сиюминутное, замечу вскользь), ситуативные, на лету изобретаемые – чтобы тут же, на следующем шаге, быть разобранными, смениться другими – ловушки для смысла. (Или, ещё точнее, опираясь на собственную лексику автора – для состояний застигнутости смыслом: «Уже застигнут».) И ритм, и рифмы, и будто случайные созвучия – всё здесь работает на это. Состоящие в глубоком родстве с разговорной речью, с будничной беглой скороговоркой (со множеством её признаков: недоговариванием – «человек не вычита-», «Но – это всё что», «чтобы о нём не забыва…», неправильностями – «ничилавечески устало / забыло говорить», спотыканием языка на бегу: «и опять сквозь я говорит»), способные показаться черновиками, как будто даже необязательные, эти словесные наброски обладают, однако, ясностью чертежей – и цепкой точностью: что ни текст – то формула или даже целый набор их. (Кстати, едва ли не каждый из них – одновременно и рефлексия о собственном его устройстве.) Жёстко-честные, эти стихи – моментальные снимки ситуаций рождения речи-и-смысла вместе, ещё до их разделения, подстерегающие это рождение в самом начале. Лёгкие на первый взгляд (на самом деле – ворочающие сырые пласты речи, вызывающие в памяти скорее уж Андрея Платонова: «заткнулся и умер в себя самого»), они – именно благодаря максимальному сокращению, почти схлопыванию) расстояния от ощущения мысли до её высказывания – схватывают самое существенное. И уж не выпустят.
Стихотворение – это не
лучшие слова в лучшем порядке,
это стечение звуков и обстоятельств,
это такая одновременность всех вещей,
в которой для тебя
места уже не осталось,
вот ты и пытаешься…
Но – поздно.
Уже застигнут.
То есть стихотворение – это
вообще не слова,
а ты сам, когда жизнь прорастает в тебя,
как ноготь в дикое мясо.
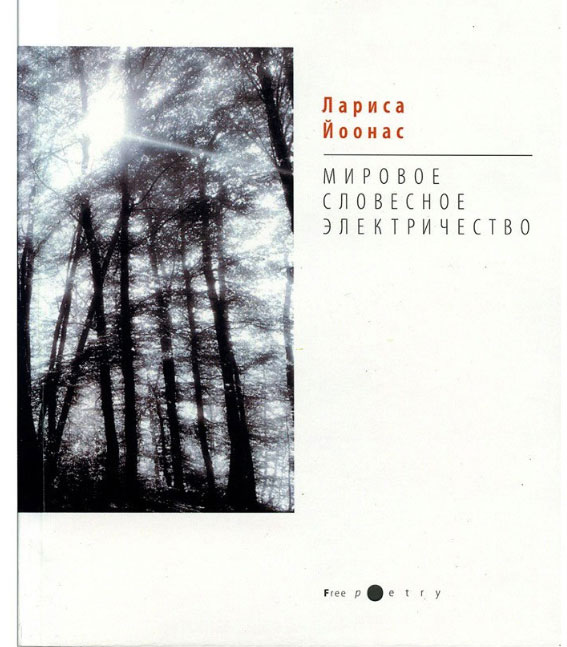
Лариса Йоонас. Мировое словесное электричество: Книга стихотворений. – Чебоксары, Free Poetry, 2019. – 72 С.
Русскоязычная эстонка Лариса Йоонас, кажется, в полной мере использует свою принадлежность обеим культурам – видимо, в равной степени прожитую и прочувствованную, но в обоих случаях неполную, оборачивающуюся вненаходимостью по отношению каждой из них – и позволяющую видеть зазор между ними, между человеком и культурными условностями вообще, между культурными условностями и миром. В этот зазор ощутимо затекает метафизический сквозняк. С родным, чутким и послушным ей русским языком Йоонас умудряется обходиться как-то так, что он – сохраняя русскую точность, но совершенно, кажется, минуя русские поэтические инерции (как, впрочем, – и обходясь минимумом отсылок к эстонским историческим и иным обстоятельствам) – ведёт эту речь прямо к основам существования, к образующим его силам, почти мимо культуры – к природе и ещё того глубже – к её доприродным корням. Культура с её цивилизацией задевается здесь как бы боковым зрением, в поле которого при этом движении вглубь успевают мелькнуть и «пресуществление даров», и «металлический нож», и «бумажные носовые платки», – но взгляд на этих деталях не задерживается. Это – выговариваемая языком чувственно воспринимаемых вещей – в конечном счёте, чистая метафизика; всё остальное – средства к её уловлению.
Поплавок при падении в воду пробуждает звук
разрывающий отражённое свечение порождая кратеры
движущиеся от насекомых к растениям и обратно
рыбы выходят их плоти воды а птицы пьют её кровь
акула вскармливает котят
рождённых основать самый последний город.

Татьяна Грауз. Внутри тишины. – М.: Союз Дизайн, 2019. – 300 с.
Книга поэта, эссеиста и художника Татьяны Грауз – редкий случай цельного высказывания. Предстающее поверхностному взгляду прерывистым, включающим в себя, может быть, больше пауз, умолчаний и промедлений, чем речи как таковой, оно на самом деле пронизано и удерживается одной общей интонацией – и включает в себя на равных правах как текстовую, так и изобразительную компоненту: оформлена книга тоже автором – с собственными рисунками и коллажами Грауз, и это важно: поэт работает в этой книге как смысловыми, так и несмысловыми средствами – в силу чего последние получают значительную смысловую нагрузку.
В этой чувственной. осторожными прикосновениями (к поверхности мира) осуществляемой метафизике вообще важно всё, вплоть до пауз, пробелов, размеров полей: они тут широкие – помещая каждый текст внутрь тишины, Грауз делает его особенно слышимым. Отдельное внимание стоит обратить на графику внутри отдельных стихотворений: разбиение отдельных стихотворений на две колонки – два параллельных, перекликающихся друг с другом речевых потока; увеличенные расстояния между буквами в некоторых словах – впускание воздуха внутрь слова; разный размер шрифта, а иногда и разные типы шрифтов в некоторых стихотворениях (остались флоксы настурция георгины / где-то камыш шелестит), сообщающие этим письменным текстам – письменными же средствами – устное качество: сочетание в них повышения и понижения голоса, полнозвучной речи и шёпота. (С другой стороны, это же придаёт текстам черты если и не живописи, то по крайней мере графики – наделяя их зрительно воспринимаемой перспективой, глубиной, чертами трёхмерной пространственности.) Важна и индивидуальная авторская пунктуация: некоторые строки или части их поэт заключает в круглые скобки, в которых, вопреки обыкновенной практике, – не уточнения к уже сказанному, но как бы отступления внутрь текстов, на второй, потаённый план, где проживаются альтернативные, не вполне развёрнутые варианты затронутых в текстах событий:
и я когда-то (была) тосковала
лето в ладонях несла (сливы спелые солнца) воздух
жаркий живой ускользающей жизни

Делаланд Надя. Мой папа был стекольщик. — М.: Стеклограф, 2019. — 70 с.
«Практически все встреченные отзывы на книгу, – писал в своей рецензии на сборник Делаланд Андрей Рослый, – содержат упоминание о семантике стекла» (соответственно: прозрачности, хрупкости, света, острых осколков…). Истинно так, и понятно, что название книги направляет внимание, затем и заведено, – и именно поэтому хочется поискать понимания этих текстов на других путях – менее явных и тем более важных.
Первое, что у Делаланд бросается в глаза: осторожное проступание через вполне конвенциональный язык перворечи, – близкой к тому, как говорят дети, ещё осваивая язык, не зная ещё, как «можно» говорить и как «нельзя», – слепливают слова, повинуясь сиюминутному чувству, и они-то и оказываются самыми точными. Попытка, значит, первоописания мира, первовыговаривания его: «бычат быки и пчёлы над травой / бычатятся на немоте счастливой».
(Кстати, тема детства как человеческого состояния у Делаланд вообще одна из сквозных, и это – состояние самое правильное, точное, истинное: здесь сам Бог – «лялечка, малыш», которого не понимают в своей слепоте скучные взрослые; и в каждом человеке поэту хочется «спасти ребёнка». – Может быть, только смерть присутствует здесь так же настойчиво, даже настойчивее любви, вечной лирической темы, – а впрочем – все эти темы здесь настолько в родстве, что уж не стороны ли они одного и того же?)
Далее, важно, что – как и положено всякому первоописанию – это ещё и некоторая онтология: точнее, совокупность онтологических интуиций, общих и смутных чувств того, как устроен мир. Притом выговаривается это без малейшего дистанцирования от мира, глядя на него не извне, но с полной включённостью – изнутри, чувственно, наощупь: «…ускользает материя – ускользать / из ослабевшей памяти (нет, не это), / из ослабевших пальцев…» Вот да: пальцами вернее, точнее чувствуется вещество, образующее мир, и между отдельными предметами здесь (ещё? или в принципе?) нет устоявшихся границ, жёсткого распределения функций, закреплённых мест в существовании. Так ручка («строчащая» буквы) легко может оказаться «швейной»; телу ничего не стоит состоять «из стрекоз», а буквами можно совершенно осязаемо (осязаемее прочего!) «потрогать <…> за сердце».
Бытие и небытие здесь – части единого цикла, переходящие друг в друга почти незаметно. Границ между ними нет, может быть, ещё более, чем между всем остальным. А после смерти, возможно, вообще всё только начинается:
и вот мы умерли и встретились и я
смотрю сквозь голову продумываю долгий
тоннель из памятных светящихся осколков
то жизнь моя (то ты) то жизнь моя
и вот мы мертвые молчим как неживые
и память смертную рассматриваем как
витраж в соборе легкокрылая рука
пронзает трогая наносит ножевые
и вот мы маленькие мертвые стоим
не зная имени не понимая речи
и нам становится все легче легче легче
как будто им
Ольга Балла
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке


