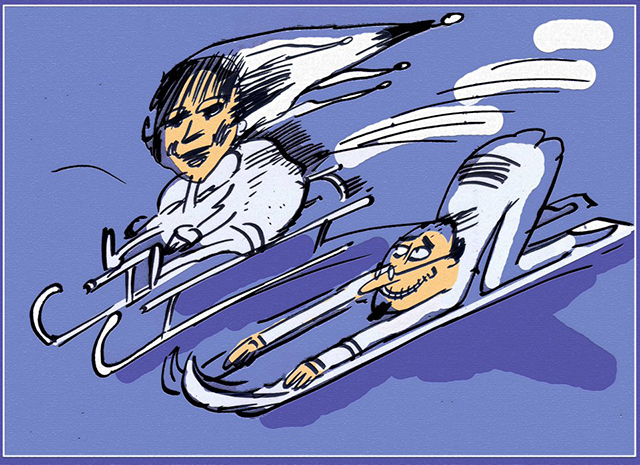ВНЕБРАЧНЫЙ КОНТРАКТ
Дедка за репку,
А внучка за бабки.
Мила Леденцова была хорошей девушкой и за это ей крепко повезло: родившись в один год с олимпийским медведем, выглядела она гораздо лучше. Жизнь её текла, но не менялась. И всё у неё было. Как у людей. Но, правда, всё какое-то небольшое. Тоже как у людей: небольшая зарплата, небольшая квартира, небольшая сберкнижка, средних размеров белая кружка в красный горох. А постоянно хотелось чего-то большего, большого и побольше. И более огромного привлекательного досуга.
Мужчины, конечно, тоже были. Как у всех. Но не каждый год и не каждый раз. Не уживалась она с ними. Хорошо удавались ей только разводы. И были все обладатели её сердца и прочих элементов экстерьера, как и положено, небольшого достатка, включая последнего двоюродного мужа, который, постоянно стеснённый в карманных расходах, погожим сумеречным утром вышел в поисках культурной жизни за водкой и определиться на курсы промышленного альпинизма, а позвонил через неделю из Перми, где нашёл своё мегапиксельное счастье в торговых рядах местного рынка металлоконструкций. Во время звонка был трезв и вежлив. Оскорбительно трезв и оскорбительно вежлив. И Мила его сразу разлюбила, одарив напоследок невнимательным репримандом с использованием тягуче-гнусавого молодёжного акцента недосреднего возраста. Потом задумалась об обстоятельствах образа действия, но убивать себя не стала, а смахнув невыпавшую слезу и сдержанно матерясь, захотела жить дальше. Находясь в одной комнате с пейзажами и фотографическими произведениями доступного чёрно-белого соцреализма в штатском. Ей в жизни иногда везло и она обожала жить. Обожала дойти до самой сути, возымев культурные гипотезы в голове, поменять вектор личностного роста в рамках личной же терпимости. Вектор указывал на когда-то белокаменную столицу, овеянную ныне студёными петровскими ветрами. Край родной навек любимый с щемящими кадрами небогатой жизни перешёл в разряд чуждых высоким чувствам низменных скаляров. На улице плюс двадцать два. Ей немногим больше.
«Знаю, что будут, наверно, не раз
Грозы, мороз и тревога.
Трудное счастье – находка для нас.
К подвигам наша дорога…»
Раньше Мила нигде кроме областного центра, где трамваев не было, а автобусы ходили не каждый день, не бывала, принимая факт существования целого ещё Воронежа, маньчжурских сопок и островов Сейшельского архипелага скорее на веру, чем как результат географических изысканий человечества, но в путь тронулась отчаянно смело, привычно сочетая размышления эконом-класса с отъявленной широтой помыслов. В России, так уж договорились, всё шире: и тротуары, и узкие помыслы, и гармонь, и загадочная (щедрая) русская душа, и колея.
Оказавшись в Москве, хотела стать артисткой, а стала беременной, из-за чего творческое начало в ней присмирело и велело устроиться на работу. Как всем.
Последовательно служа на Пироговке, по первости путала раритет с паритетом, Стромынку с Ордынкой, а ресторацию с реставрацией, не ведая о превратностях одностороннего движения и насыщенности рынка неформальных женских услуг по франчайзингу. С мужчинами держалась предупредительно, внимательно выговаривая разные беспочвенные слова и совершая славянскими богобоязненными глазами витиеватые эскапады, словно желая взять интервью. Любые проявления вежливости принимала за флирт, предвкушая последующие далеко ведущие встречи при скудном искусственном освещении на землях ухоженного высокозабористого частного сектора.
Бессонные дни коротала в солидной конторе, где пребывала среди бухучёта и раскраски «Тетради наблюдения за природой» шефского дитяти, исповедуя хорошо прочувствованные принципы беспринципности и увлекаясь новеллами из сферы налогообложения. Занятия ей не нравились, дни походили один на другой как воробьи, но она, от природной тяги к положительному труду, чуяла скорым умом своим, что возле толстых мужчин, обтянутых служебными костюмами торжественных марок, её потёртая веками идея совместить бескорыстную любовь и корыстные деньги имеет потенциал. И потенциал состоялся, несмотря на существенную разность потенциалов.
После первого же полуденного саммита на дежурно-скользком канапе с весёлым кадровиком в клетчатых носочках, преисполненного отцовских чувств и фамилией похожей на название японского двухкассетника, её полунежное бедовое сердце впало в предварительную (стартовую) радость, набухая от счастья. Опытной буйволицей громыхнула амальгама чувств, Мила сделалась нарядной и сразу привыкла, не увлекаясь умственными причинно-следственными связями, отравляющими жизнь. Кофточки с Черкизона перешли в арьергард. Следуя инфантильному инстинкту тщеславия, она построила лёгкое демисезонное пальто, купила книжку из мелкой жизни и кинулась использовать в но́ске обманные лифчики с двойным пуш-ап, сопровождаемые центростремительным прохладным декольте и честными девичьими трусами без намёка на леопардность, но с намёком на дизайн. Заманчивый аутфит в искусном обрамлении лица, будто слушающего Шопена на икс-летии Октября в компании потомственных собаководов рысистых пород. Город был покорён. Мила научилась делать влажные глаза, презирать приезжих и скандалить в поликлиниках, страдая вспышками вульгаризма. Коренная москвичка в первом поколении, пустившая громоздкое воображение в галоп. Коуч среди неучей. Неуч среди коучей. Жизнь опередила мечту. Хотя и не скажешь, что чересчур. Образовался серьёзный риск стать счастливой.
Наиглавнейший столоначальник, страдающий преждевременным волеизвержением и выпадами в сторону финансового капитала, — «десятка» на картоне её жизненной мишени – дорогой товарищ Эдгар Порнокопытенко — был мужчиной крайне обеспеченным, не успевшим вскочить на уходящую ступеньку пенсионного эскалатора; специалистом по оригами, командном кручении халахупа и чемпионом цокольного этажа по шашкам в тяжёлом весе. Интеллектуально несовершеннолетен, морально уклончив, в услуженьи стремителен, при выборе направления поступков суетлив, эстетически не амбициозен, в порочащих связях со здравым смыслом не замечен. Тайный последователь секты вертолётных романистов-кладовщиков. Заслуженный рыболов Марианской впадины. Председатель Совета колхозов Арнаутской губернии.
Выглядел так, что в розыск особо не объявишь – ничего выдающегося, как надпись на заборе общенационального образца: вакуумные ботинки, засмотренные очки, отражающие дряблость мысли, и ходит, будто пасётся после болезни. С провинциальной неспешностью, похожий на рекламу сульсенового мыла. Необыкновенно обыкновенный. Как измятый трактором подстаканник. Целлулоидный герой рисованных вестернов. Из тех, что нравятся начальству, развлекая взгляд. Неважное зрелище. Как мокрый плащ на дверном косяке. Как мигающие нули на электронном табло.
Когда-то он хотел боксом в люди выбиться, провёл сто сорок боёв, но все неудачно. В соревнованиях ему уверенно удавалось занять лишь первый шкафчик, несмотря на повышенные абразивные свойства души и кожного покрытия. Обуянный романтикой ручных гранатомётов и мечтая поучаствовать в мировом национально-освободительном движении, он окончил школу для умственно отсталых с золотой медалью. Гордые покорённой образовательной вершиной родители тут же определили его комсоргом в Институт зарубежных языков с целью впитать литературное вещество и обучиться социалистическому способу его производства.
Лоснясь от европейского самочувствия, он прочёл «Буратино» в подлиннике и сделался хорошим переводчиком. Правда, переводил мало, плохо и неточно, сбиваясь на родную ему речь человека резко континентального происхождения, в которой массивная пивная кружка именуется «бокалом», любая просторная комната, где нет пьяных, «залой», а «спать» и «отдыхать» — синонимы. Гламур на трёх вокзалах. Волга впадает в Уральские горы. Ему, как царевне после поцелуя лягушки, всегда доверяли делать коллективные фото, чтобы не портить кадр.
Минули небольшие лихолетья, и когда вокруг всё стало можно и страну окончательно подкосила свобода слова, разнузданная гласность и произошла полная доминанта гражданских прав, партийные деньги папы и профсоюзные деньги мамы не испортили его выбором жизненного пути. Сын-бор влился в очередные несгибаемые ряды, наблюдая грудь четвёртого человека в партии, питающего слабость к однокоренным словам. Существовал аккуратно, как пленный, не сознавая нутром абсурдности происходящего и выкраивая значительное лицо, чтобы никто не догадался о его ненужности. По нерадению служил с ленцой, понимая только согласные буквы, спустя всё, но расторопно воруя с обеих рук во главе узкого штата профессионалов, не давая угаснуть классовому чутью и упиваясь масштабами государственной разрухи, с успехом заменяя недостаток опыта полным его отсутствием.
В рабочем кабинете усердствовал не покладая. Благодаря стараниям уборщицы его письменный стол всегда блестел, шаля солнечными зайцами: ни единой бумаги («подписано, так с плеч долой»), ни самописки, ни календаря, ни даже обязательного в последние десятилетия хмурого портрета со служивой хитрецой во взоре. Ничего. Никогда. Стол был всегда «пуст, как холодильник с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры». Хозяин с шизофренической точностью умел делать глупости на ровном месте. Без промаха. Нанося Отчизне запланированный вред. Обновлённая версия старой чиновничьей этики.
Но одна непреклонная производственная слабость всё же была: человеческое стремление к простым аналоговым процедурам, не требующих значимых интеллектуальных вложений. Он точил карандаши. Точил всегда, точил везде. С душой и забывая себя. Специально придуманным для этого ножичком. Мог тесать деревянные палочки часами и неделями, укладывая готовую продукцию в большую бережно хранимую сигарную коробку с вензелями кубинского королевского дома. Строго по ранжиру. Острый гладенький наконечный грифелёк вызывал в нём луннонезависимые приливы и отливы нежности, подводил к высшей степени административного восторга, с которым могла сравниться лишь животная радость от рачительного рукоприкладства веселоцветного пипидастра к недалёким потолковым лампадам. Истинно государственный подход к делу. Пример отдачи патриотического долга Родине сполна и без задержек.
Альтернативно одарённый, из собственных достижений имел лишь погашенную судимость по пустякам, некрасивую аквариумную рыбку на плече, громкий невоспитанный голос, хрустящие попеременно коленные суставы, значок «Победитель соцсоревнования», скраденный в ленинской комнате Дома санитарного просвещения издательства «Вагоны и контейнеры» и несмолкающее чувство зависти ко всему. Патологическую честность тоже нельзя было отнести к его вопиющим достоинствам. Талантливых людей, ожидая умственного подвоха, особо не жаловал, считая, что талант есть зловредная выдумка буржуазии, которая всегда стремилась унизить широкие трудящиеся слои. Эта мысль покорила его голову и окрасила эмоционально, сделав строгим и неромантичным, как шлейфовый осциллограф.
Существовал он как-то умышленно, играя навыками отставного фермера чужие роли. Был скрытен. Садясь в такси, долго не говорил водителю куда ехать, сохраняя стратегическое выражение лица и зависая в античной позе. Обзаведясь впоследствии для безопасности капитанами безопасности, существенно упростил жизнь столичным драйверам.
Любил всё большое в тяжёлой форме. В багажнике его блестящего заокеанского авто колера «серебристый виталик» не мелкие уже дети могли свободно репетировать любые выкрутасы огненного «Танца с саблями». С саблями. Вообще-то, он всесторонне ненавидел Запад и без оглядки любил всё русское, но пользовался всем заграничным: у них прогресс дошёл до крайности и всё стало удобно, а они всё тянут и тянут жилы из наших соков. И то сказать: американцы исповедуют свободу печати, ипотеку, колу и аспирин, улыбаются всем как ненормальные, а на улицу вечером лучше не выходи: кругом бряцает оружием военщина и преобладает оскал империализма. Он видел эти нью ансы Нью-Йорка собственноручно. В райкоме единой партии подробно просветили, высветили и засветили.
Убедительный капитал, не отвлекаясь на депрессию и другие научно-психологические веянья, составил на ниве оптовой страховой благотворительности, оказывая гражданам принудительные услуги, никогда не задумываясь над тем, что ему сложно было понять. Подвергся богатству и быстро смирился с ним, неожиданно для себя став экономической элитой и обретя внушительное лицо, будто снедаемое мировой скорбью человека всю жизнь торгующего детскими колясками.
Был вхож в задворки действующей консоли властных органов, где возгорался благодарностью перед глубинными лицами законодательных палат и умело принимал парламентские стойки, ориентируясь на российскую редакцию Камасутры под треугольным одеялом. На публике был всегда глубоко выбрит, располагая фактами из истории прошлого: в бакенбардах содержится мало патриотизма. Изъяснялся одномандатно, привычным языком месткомовского гетто, обогащённым свежеусвоенными лозунгами из «Красной звезды» времён маршала Советского Союза Гречко А.А. Кормило его незаконнорождённое кресло, лояльное тугодумие и гарантия абсолютной безнаказанности. Витаминов на ложное борение за ложную правду хватало. Ему всегда больше удавалась борьба, чем созидание.
В границах семейной жизни жена и опрометчиво заведённые небольшие потомки у него кое-как имелись. Одну женщину всё-таки удалось уговорить. Но брак не задался и супружеский долг достиг мрачных глубин отрицательного экстремума, поскольку параллельно он сильно увлекался буржуазной забавой в клубах ночного направления, питая постоянное влечение к случайным связям, основанное на принципах марксизма и всеобщей формуле капитала. И до того чувствителен и лаком был до дам, что однажды напустил в штаны от нервов во время «белого» танца, искажённо производя ужимки не в такт нежному полонезу в тщетных поисках эротического консенсуса. Он ценил в девушках не разум, природную стать, лёгкий характер или коралловые губки, а доступность. Однако без денег женская общественность его не хотела, без денег она стеснялась своих чувств и не обнажала портфолио. Строго по тому же Марксу. И он платил. Экономно. В надежде перехода количества в качество. Количество было существенно урожайным. Качество — спорным. Как-то от скромной, но легко доступной девушки трудной судьбы из зоны нерискованного виноделия он заимел скверную болезнь, которой, как истинный мачо на коне, впоследствии даже гордился, словно его прилюдно наградили благородным Орденом Подвязки у королевского фонтана. Это событие переменило его и без того небогатый внутренний мир. Он резко почувствовал себя гордым рыцарем с пером в затылке и агрессивное бескультурье окончательно превратилось в лучшую часть рельефности его культурного ландшафта. Величайший прижимистый господинчик с окраинным лицом огородника-рэпера и повадками похмельной самочки Пиноккио, обронившей невинность на смотре авторской песни. У каждого свои предметы для гордости и свои понятия о прекрасном.
Но Миле было не до брутализированных тонкостей мироощущения избранника, ведь за ней впервые стали ухаживать, вручать знаки неравнодушия, а не молча, как корову, теснить в направлении fuckальной плоскости. А ухаживал Главный хоть и неумело, но красиво и с фантазией, от души, обдавая объект перспективой: отпускал пораньше с работы, угощал без ограничений калёными семенами подсолнечника обыкновенного, задарил на майские пук амплитудно дрожащих идеологически выдержанных гвоздик и небольшую картину Пьера Огюста Ренуара кисти Псоя Клима Надберёзовикова, стоимость которой он, вступив в преступный сговор со своей жадностью, провёл как материальную помощь банку «Сурикат-кредит». А после намёков на неудобосказуемые формы любви, исключающие внятную устную речь и последующего увлечённого изучения узоров на милиных чулках, уровень жарообразующей полемики возрос до пи́кового значения и они заключили пакт о нападении, исполненный безумств из сферы страстей бронзового века нашей эры. Это обещала быть постоянно действующая случайная связь шаговой доступности, позволяющая экономить на трансакционных издержках и сахарных трубочках, отвергающая финансовую научность.
Юноша заискрился от несбывшихся (пока) желаний, потерял радостную голову, стал сочинять любовные стихи в виде поэзии и бросился нещадно тратить казённые средства на самого себя, как главный ретроградный метатель канцтоваров в обличье грустного свингера, войдя в лёгкий неконтролируемый запой, превозмогая алкогольный генезис и собравшись группой одного и не более лиц в связи с сомнениями по поводу бессмертия души, выделывая при этом занятии речевые шалости, как у вольера со слоном, с трудом попадая в современные законы физики. Запой больших чисел – не прогулки по оливковой роще с дизайнерской собачкой марки «мальтипу» на телескопической верёвке. Только смерть избавляет от расходов на проживание. На казистом лице явственно проступали шрамы от непрочитанных книг.
В припадке вдохновения страсть не сдавала позиций, подвергшись спазмам эстетизма в направлении богини безответной (пока) любви. Превентивно опохмелившись (трезвость вызывала в нём неприятные воспоминания) и поставив в известность заслуженную вдовствующую супругу о внезапно горящем симпозиуме по внедрению цифровой экономики в аналоговые ресурсы Красноярского края, он приобрёл пакет ценных бумаг для двухместного посещения тёплой столицы бывшей союзной республики с целью обрести неизбежность взаимного счастья, как при покупке зимней резины для самоката. Повёз любимую, считай, без малого за границу. Тайный гусар, наблюдающий детские стыдные сны про курение на чердаке за расширенной трубой принудительной вентиляции. Но и ему стало хотеться красоты в общении полов, чтобы показать всем разные удивления, как директору завода, где шьют лифчики.
Провожали их жизнеутверждающие принципы с трудом развитой действительности, редкие птицы фабричных расцветок и погода. С неба в беспамятстве сыпало игривое солнце, путаясь в улыбчивых облаках. Особый коридор. Рядом беснуется простой народ, подозреваемый в непростительном стремлении к лучшей жизни.
Небо. Самолёт. Девушка. Бизнес-класс. Мясо или рыба. На стенах нарядные таблички с надписями весёлыми червячками – тамошний колорит. На парне нарядная душная тройка «джерси» глубокого партийного цвета, как у регионального композитора, не сходящаяся в области предполагаемого пищевого тракта. Пляжный щёголь третьего эшелона на свободном выгуле. В таком модном приговоре обычно ездят в гости к дальним родственникам, чтобы те не требовали усиления материальной поддержки.
Мила в легко снимаемом воздушном платье, прикрывающем только колени. Волнующе прозрачная, как велосипед. К поцелуям, как принято, зовущая. При соблюдении, естественно, определённых микроэкономических условий. Она — женщина слова.
В салуне просторно и тихо. Только негромкий пьяный в лохматом галстуке быстрого приготовления с рекламой общепита на форзаце запивает водку жёлтым соком из всхлипывающего в руках пакета с небрежно отгрызенным уголком. С мизинцем на отлёте. Тоже «элита». Высокомотивированная и низкоквалифицированная. Присвоившая себе право говорить от имени народа. Полуграмотная, надевшая бетонный скафандр Родины-матери и поучающая всех, вся и всему. Имеющая простые, заранее неправильные, ответы на любые сложные вопросы. Выходцы из мелкопартийной шушеры. Первопроходимцы с водевильным баритоном, хорошими связями и плохим русским.
Меж рядов гибким отдохнувшим телом струится юркая стюардесса, громко пахнущая зубным врачом. Чувствуется, что она всех не одобряет. Чрез неё сквозит решительная добродетель.
Целомудренная пара контрактников-высотников свила гнездо подальше от греховной цивилизации, у замутнённого дискретным дыханием окна, в которое заглядывала далёкая пыльная Луна и близкая водная гладь, рябившая от несильного ветра.
Своим ослепительным шёпотом родной речи они нагрели весь салон, проявляя попутно любовные дерзости руками в запотевших от страсти часах. Мила расстегнула на груди коллеги зарубежную рубаху, не упустив из виду и собственную амуницию, с которой неловкий кавалер никак не мог справиться внезапно захолодевшими пальцами. Они стали позволять себе лишнее в условиях замкнутого самолётного пространства, производя глажку свободных от покровов участков тела, будто оголённых проводов в гостиной старой дачной постройки, конфискованной комитетом бедноты. Факультативное зрелище феодальных утех. Прямо загодя сердце мрёт. «О закрой свои бледные ноги».
Нетерпеливый кабальеро яростно вторгся в обстановку и вминательно исследовал послушную девичью грудь, будто на ней было начертано будущее, от усердия раздавив в кармане спички и потревожив нечастые бриолиновые волосы под покраску. Человеческое пересилило в нём производственное. Стая размороженных чувств пронеслась над диафрагмой. В глазах сияла халва. Туман, как молоко цельное сгущённое с сахаром, заливал сердце. В душе шёл горячий индейский дождь индейского же демисезонного лета. Ему раньше некогда было, а теперь он её обожал всеми фибрами своего несессера, сознавая полноту собственных привилегий.
Признаки симпатии влюблённого ненароком мужчины были видны обычным, невооружённым глазом. В милитаризации взора нужды не было: Мила закаляла сталь умело, чтобы не было мучительно больно, срывая по пути флаги на башнях. Безумствовала во всех направлениях, оседлав энергетические потоки.
Флюиды сгущались. Вельможа закатил глаза, освобождая внутри себя место для дополнительного восторга и переосоздав всё в воображении по законам красоты, но вдруг резко обмяк крупом, обронив либидо до полной утраты закадычно дружественной эректильной функции со стороны бывшего вышестоящего органа. Сел, как не свой, расплескав вожделение. Унылый, как невестина кукла в пламенеющих лентах на свадебном капоте прокатного авто. Как каменный гость – борец за цементное дело, как делегат от партии национальных акробатов, внимающий песне парового молота на праздновании 300-летия XIX партконференции. Родину заволокло тучами. Герцог Вюртембергский наебнулся с коня и уронил фасон, снискав квазиравновесное состояние. Ни с того, что называется, ни с сего. Сложное расположение образовалось в воздухе. Несильный разум погряз в ужасе, как наивный волнистый попугай, оказавшийся в комнате, где репетирует военный духовой оркестр. Заряд бодрости и мобильника пришли в негодность.
На свежую новость парадной походкой сбежалась ко всему готовая стюардесса, танцуя лицом и отбрасывая токсичную тень на стены и тряский кожаный багаж. Ей тоже хотелось славы и пожать немного плодов. Согласно эстетике советских поздравительных открыток она пустилась охать и больной глубоко опешил, потеряв сознание и привлекательно свесив ноги в пустоватых праздничных сандальках. Повис как бельё на верёвке в ожидании утюга, покинув животный мир обитания существ. Неэффективный, как одноногий чечёточник. Беззащитный, будто по спине с угрозами ползёт злая мёртвая стрекоза с кинжалом в зубах. Нелепый, как худой ученик комбайнёра с рейсфедером наперевес и в ковбойской шляпе, испускающий робкие дифтонговые звуки.
Пьяный в галстуке, разочаровавшийся в партийной доктрине по причине недоступности алкоголя в бездушном воздушном пространстве, наоборот – проснулся, зевнул, как пожилой лев, хрипло потребовал ландышей и охлаждённую газету, лёгким движением души опровергнув остатки сока на себя и на самолёт, нанеся ущерб. Он подумал, что он невидимка, но не подумал, что невидимость и незнание презумции не освобождает от ответственности, которая наступает почём зря. В глазах невежливо проступала социально близкая «рабочая косточка».
Людей в радиусе центрального диаметра периметра аварии ссыпалось с избытком без недостатка. В основном, эта была сельская интеллигенция, объективные идеалисты русского толка, предпочитающие вьетнамский джаз седьмой волны всем прочим музыкальным направлениям. Неглубокий уровень собрался. Большинству из них была безразлична судьба человека во всех её кинематографических проявлениях, их распирало желание узреть интерьер и меню запретного для них транспортного отсека и хотя бы временно на законных основаниях ликвидировать социальную рознь внутри первого в мире юридически окаменелого социального государства, в котором законность не имеет отношения к справедливости и легко подменяется целесообразностью. «Ах, скажите, какой романтизм!». Таким был незатейливый вывод, рапортующий о всеобщем удовлетворении.
В толпе отдыхающих обнаружился дипломированный кем-то врач – наладчик станков с числовым программным управлением из Среднего Тагила, председатель поправочной комиссии, питающий загадочную страсть к столовому серебру. Он велел подпустить воздуху и шустро, как трезвый, измерил температуру «элитного» пациента. Температура была высокой даже по Кельвину Кляйну, но не превышала температуры плавления вольфрамо-молибденового концентрата в соотношении 13:27.
Близкая людям, умудрённая поверхностными народными знаниями бабушка с ручной кладью, не без причин не выпускавшая из твёрдых объятий крупный чемодан с неровной надписью чернильным карандашом «Ф. Ушатов. 3 отряд» и понимающая толк в людских хворях, кратко, по-казённому, зачитала приговор: «Ветрянка, сэр! Как есть ветрянка!». Все захлопали, хотя самолёт ещё болтался в нижайших слоях тропосферы.
От туристического шума виновник внепланового кворума у собственного изголовья очнулся, поднял грустные глаза и увидел общественность. Та была беспокойна и лила воду на кожу. Где-то внизу мягко коснулись земли колёса и прогремели повторные продолжительные аплодисменты, переходящие в принудительные овации, как на имперских съездах, пронумерованных для куражу римскими цифрами ( удобно же: палку справа приставил и все лозунги и обещания без ощутимых потерь переносятся на новый срок). Больной снова оказался в забытьи, не строя планов на будущее и убрав ковёр нетерпения в сундук ожидания. Выглядел расстроенным. Как пионер, наблюдающий за сексом бабочек в монгольском лесу. Как трагик в генеральском реквизите, излагающий сатирические куплеты на юбилее Гробоносовского промышленного завода в честь выпуска первой партии семяприёмников для быка.
Стихийный митинг сочувствующих субъектов федерации разбавили гневом нахлынувшие тревожные люди. Они, гудя клизмами и не оскорбив сочувствием, увели клиента в хорошо изведанную даль, минуя предварительные ласки. И он ушёл, укротив свой сангвинический темперамент, выделяясь средь граждан лишь повышенным уровнем неопрятности верхней и нижней одежды. Ушёл, превратившись в точку, как последний автобус с прижатыми дверьми, бросив на алтарь медицины любовь неестественной величины…
А Мила тем временем уже сидела в президентском «люксе», пугаясь небольшого озадаченного швейцара, к которому третьего дня средь бела дня вернулась жена. У того теперь что ни слово, то «хэндэ хох!».
Солнце сверкало хрусталью. В зарослях мускулистой черешни текла распухшая река. Вода в ней гладкая, будто никто её сегодня не трогал. Старые советские постройки в городе ещё разрушались. Новые разрушались уже. От прошедшего времени.
С улицы конструктивно поступали возмущённые звуки. Преимущественно семейства кошачьих. Похожие на волшебные голоса источников минеральной воды с умеренным ph. Мила завидовала. От недомогательства у девушек свободно происходит недомогание, и она горевала по судьбе, не зная кому дать в такую чудесную погоду, сбрасывая со счетов счета за газ, одежду, разницу в цифрах рождения и превращая спальню в поле битвы за светлую жизнь без ипотеки.
Купленное для случая деморализующее бельё, увы, не пригодилось, но в нём она чувствовала себя увереннее. Нежную шею абонировала горжетка из афробурой лисицы. В таком образе не стыдно и на парижскую мостовую из окна выпасть. Хотя, конечно, не стоит покупать вещи для жизни, которой не живёшь.
По устоявшейся привычке убивать себя опять не стала, а принялась легкомысленно передвигаться в пространстве, увеличивая беспорядок, ведя буржуазный образ жизни и топя своё горе в белом вине под рыбу и в красном под мясо. От сглазу. Оплаченные заранее печенье с волнующим названием «Фантазия», полметра каменной австро-венгерской колбасы и подозрительно волосатые фрукты остались нетронутыми. Играй, дутар! Раззудись плечо при звуках неаргентинского манго.
От промиллей в голове возник лиризм и ей захотелось написать трогательное рондо для профсоюзного раута или служебную записку на пушистой с родинками бумаге, лежащей на столе. Ветер парусно вздрагивал листки, образуя нежные пологие горки. Однако желание быстро иссякло и она добавила ещё вина, вытирая неутомлённые губы местным полотенцем, на котором был нарисован некрасивый верблюд. В жизни всегда есть место поводу. Скрижали с кинжалами скрежетали контрастами: шабли и Black Sabbath. Чистое деревенское лакшари. Без посторонних включений.
Сгоряча Мила отдалась дальнейшему досугу и задумалась своими мыслями: вот живёт, к примеру, человек спокойно, среди общества и детей, зарабатывает на жизнь честным беспробудным трудом и вдруг ветрянка. Как же много от последующего поколения болезней, наносящих негативный урон полноценному общению различных по внутренней геометрии полов, от которого, от общения, собственно, и образуются иногда дети. О, тополь! Ветки твои едки!
Бутылки звякнули октавами. Сопровождаемая думами, Мила, бесстыдно притягательная, повалилась в предрассветном хаосе, достигнув кровати, вытянув стройные щиколотки неспортивных ног и сцепив запястья натруженных стеклотарой рук, поражая иностранную темноту округлостью бедра. Вино рождает желание, но убивает исполнение. А душа ждала кого-нибудь. Под музыку режима ожидания. Ей снились Элвин и бурундучки. И личная недвижимость имущественного характера с видом на шиномонтаж. От желаний можно убежать, но нельзя спрятаться. Дождь закатил истерику…
В скучном обратном самолёте летела одна. Выглядела лучше, чем в жизни – вся в чёрном, похожая на скорбящую итальянку, у которой на поминках украли ворованную брошь. Временно итальянская рука раскручивала похмельный кефир в бутылке. Парней с болезнями на борту не было. «Она надевает чулки, и наступает осень».
Но контрактный приговор всё же был приведён в исполнение. Со всей строгостью достигнутых договорённостей. Бесспорно без порно. «С разумным течением времени». Пусть и не так красиво как изначально предполагалось. Тщательно продуманный экспромт без аннексий и контрибуций.
Пропавший по недоразумению ухажёр нашёлся, одетый в незнакомый костюм грубого сукна и ногой в полиэтилене. Явив исхудавший внешний вид и расшатанное здоровье, он нивелировал свою медицинскую оплошность непосредственно по месту временной регистрации Милы, где ему наконец-то были вручены долгожданные ключи от всех ворот городской крепости. Волною тела как стеною обнесла. Через предварительный плавучий трактир, инсталлированный редким коллекционным кьянти Очаковского винзавода, упруго надутыми недовольными шарами и цветастыми свечками достойного диаметра, предусматривающими наружное использование. Горько! Горько наблюдать такой безжалостный случай происшествия. Горько созерцать, как чуть не пропал доброкачественный мужчина. Вдругорядь (допрежь) надо б от коклюша со свинкой прививку взять. А вдруг? Час-то неровён. Такова здешняя жизнь. Таковы зигзаги здешней любви. Как прятки по вотсап. Много не покажется.
Александр Бунин
Рисунок художника Игоря Варченко
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке