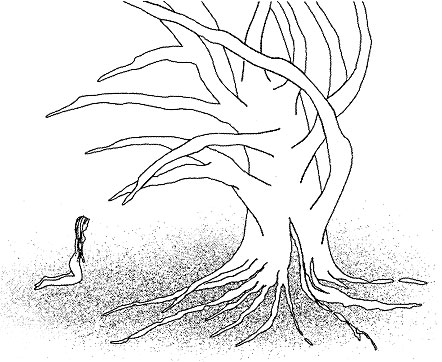
Ворота, глухая калитка в них, а в особенности звонок-ревун, противно крякнувший на весь двор, нехорошо напомнили мне Куряжскую колонию. Клацнув железом по железу, в калитке, рядом с обрезиненной кнопкой ревуна, образовалась щель, обращаясь к которой мы доложили о цели визита. Щель захлопнулась, и теперь сама калитка, дважды стукнув металлом по металлу, распахнулась на пискнувших петлях. Тут стало понятно, почему мы говорили с пустой прорезью, а не с человеком за ней: открывший служака был так мал ростом, что мог бы, скорее, общаться через замочную скважину. На нём были щеголеватые, почти новые хромачи детского размера, фиолетовые, толстой шерсти, форменные галифе, ловко сидящий чёрный тулупчик, подпоясанный портупеей, и форменная линялая фурага с пятном первородного цвета ткани на месте отсутствующей кокарды.
Всё во дворе, куда мы вошли, – и вереница низких построек, которые примыкали к проходной и от которых пахло сперва лежалыми нечистыми вещами, потом помывочной, прачечной, кухней; и серая, внаброс, штукатурка главного корпуса, и казённая ухоженность дорожек, и стриженые головы троих, разного возраста пацанов, с печальным любопытством глядящих из окна наверху, – всё говорило, что это уменьшенная копия Куряжа.
Наверное, и калитка, и ревун, и двор с его душком и нарочитым порядком готовили меня к тому, кого предстояло увидеть в кресле начальника.
Провожатый задержался у двери, чтобы по-военному провести большими пальцами под ремнём портупеи. Его седой затылок и слабая морщинистая шея выдали преклонный возраст, маскируемый малым ростом и худобой. С молодцеватостью, предназначенной извещать о радости подчинения и удовольствии служить, он вошёл без нас, чтобы спустя четверть минуты просветлённым, бодрым, строгим и будто бы подросшим вновь, появиться в дверях, жестом приглашая нас войти.
Я сказал «Здравствуйте!» вместе со всеми, а потом, чувствуя, что моё лицо само собою улыбается знакомому лицу, прибавил:
– Здравствуйте, Аркадий Яковлевич!
За столом в форме подполковника сидел Аркаша, куряжский замнач по учебно-воспитательной части. Это был человек, неугомонно вертевший всей жизнью колонии, как Балда верёвкой, когда морщил чертям море. Он вёл советы командиров, где обсуждалось всё прошедшее и планы на будущее. Он держал в тонусе соревнование между отрядами и отделениями, где учитывалась и работа на производстве, и учёба в школе, и чистота, и дисциплина, и спорт, и ходьба строем, и орание девиза, и стенгазета, и – всё, всё, всё. Вплоть до того, насколько лихо бригада рявкает «Спа-си-бо!» в ответ на командирское «Приятного аппетита!» Это соревнование бригад ни в малейшей степени не было валянием дурака, потому что пацанов из передовых отделений первыми освобождали на трети срока. Дороже приза, чем тот, что получали пацаны, соперничая в Куряже, не было и никогда не будет на свете. Призом была свобода. Аркаша звал к ней, манил и щедро и честно награждал ею.
Он приглашал режиссёров ставить спектакли, к юбилеям Макаренко лично писал стихи, которые десятком чтецов выкрикивались со сцены, что называлось «монтаж». Вопреки возрасту и рутине, повторявшейся из года в год, он умел сохранить ненапускную увлечённость работой, как это бывает только с искренними людьми, с головой ушедшими когда-то в педагогическую кутерьму.
Аркаша поднялся, ответно улыбаясь мне и не узнавая. На фронте осколок отсёк ему часть челюсти и угол рта. Забываясь, он не чувствовал слюну раненой стороной и, словно маленький, мог выдуть пузырёк.
– Антон Семёнович увлёк
Своим трудом, зажёг задором,
Чтоб стал врачом Антон Шершнёв,
Большим учёным стал Задоров! –
прочёл я его стихи.
Аркаша пустил пузырёк и, обходя стол, направился ко мне.
– Я ваш воспитанник, – сказал я.
Сверкая чёрными счастливыми, очаровательно хитрющими глазами, он нацелил в меня палец заострённой ранением руки, на которой не было мизинца и половины безымянного пальца, что дало повод одному острослову на его выкрик: «Я тебе пять суток дам!» сказать: «Там только три с половиной!»
– Командир четвёртого! – уверенно воскликнул он и протянул руку, чтобы пожать мою.
– Как же вы помните! – охнул я. – Двенадцать лет прошло, тысячи людей…
– Всех помню! – с совершенно юным бахвальством заявил он. – На пенсии ещё лучше стал помнить! Ну, садись! Садитесь! – сказал Женьке и Толику.
– Докладывай! – приказал он уже из своего кресла.
– Докладываю, – сказал я, зная, что сейчас трону в нём самое незащищённое. – Отслужил армию, вот закончил с отличием университет…
Аркаша принял бордовые корочки моего диплома, словно что-то материально подтверждающее его личную, заслуженную честными трудами победу и радость.
Его ума, умноженного редчайшим опытом, конечно же хватало, чтобы знать: мальчишек, которых после колонии благосклонно принимает жизнь, не следовало и сажать. Не система Макаренко – их держат на плаву добрые гены. Но совершенно справедливо он полагал, что их, уже посаженных, система и он позволили не загубить сроком.
– Аркадий Яковлевич, – сказал я, помня, что он любит, когда говорят коротко и точно. – Нам нужна работа.
Он глубоко вздохнул и отвёл глаза. Потом, потянув воздух, прибрал слюну, немного шамкая надорванным ртом, сказал:
– Вот скажи, кого бы, как не тебя – с педагогическим образованием, с личным опытом командирства в отряде, – кого, как не тебя, взять воспетом в колонию?! Нет, не могу! Упёрлись: судимость – крест! МВД не аттестует и точка! Я с генералом рассорился на этой почве. Такие хлопцы приходят с такими глазами, с такой душой… И мы же вас учили, мы говорили: Родина не помнит зла, вышел – чист, все дороги твои! А выходит – не все…
– Аркадий Яковлевич, нам не воспетами… – начал я и, немного помявшись, чувствуя фальшь, вдруг, не найдя лучшего, заговорил потешным тоном Чичикова, который, как известно, представлялся пострадавшим за правду. Дескать, нам, тоже пострадавшим, нужна работа, чтобы продолжать войну за справедливость. – Дежурными по режиму (работа сутки через пять, которую нам нахвалили знакомые), например…
– А ставка? Кот наплакал! С пенсией, как вот у Илларионовича, – указал глазами на оставшегося у двери службиста, приведшего нас, – да, а вам…
– Нам не до ставки. Нам нужно побольше свободного времени и такая работа, чтобы не к чему было придраться.
Он, как это делал в Куряже, принимая новичков, чуть отвернув лицо, искоса глянул в глаза мне, а потом богатырю Женьке с холёной бородищей и внешностью барственного писателя из золотого века нашей литературы и Толику – с нервным румянцем, который делал его ещё больше похожим на образцового плакатного комсомольца.
И вдруг ни к селу, ни к городу спросил меня:
– Ты ревнивый?
– Не знаю… – опешил я. – Как-то не было повода…
– Ревнивых в дежурные опасно, могут в запале наделать беды. Вот тебя – можно, – сказал он с некоторой отстранённостью, словно ещё продолжая возиться с анализом проб, взятых у каждого из нас во взгляде. – А товарища с бородой – нет. А третьего – так просто боже сохрани!
По поводу великого себялюбца Женьки его отзыв показался мне справедливым, а мнение о Толике весело удивило.
– А почему – боже сохрани?
– Он думает очень быстро, и это не есть хорошо. А боже сохрани – потому что делает ещё быстрее, чем думает. – Это было безошибочно точно о Тохе. Не в бровь, а в глаз. – Хотя молодёжь нам нужна просто позарез…
По последней фразе я понял, что есть варианты.
– А нет ли кого-то, кому надо заработать? Ребята бы числились, а человек бы делал и получал…
– Бывает и так… Бывает… – он задумался на мгновение и, решившись, произнёс:
– Да! По старой дружбе скажу без экивоков. Есть у меня работёнка, от которой все бегут, как чёрт от ладана. Надобность возникает по ситуации. Бывает, и месяц человек не нужен, бывает, и полтора. Как вам и надо, если я правильно понимаю. Называется штатная единица – эвакуатор. А служба – сопровождать детей, за которыми не приехали родители, до места их проживания.
– Пс-с! – вырвалось у Толика в том смысле, что, мол, это же проще пареной репы!
– Скор! – обращаясь ко мне, заметил Аркаша. – Скор! – повторил он, дважды утвердительно качнув головой. – А закавыка в том, что если за детками не приезжают после телеграммы по адресу, а потом после телеграммы родителям на работу и телеграммы в местный райотдел… То это особенные детки. Из мальчишек каждый, конечно, фрукт, но мальчишки ещё туда-сюда. А вот девочки… Антон Семёнович, – склонился он ближе ко мне, говоря о Макаренко, будто о нашем с ним близком знакомом,
– Антон Семёнович, как известно, из пацана вылепливал хорошего человека, как из мягкой глины. А с девчонками бился, бился и в конце концов сказал – пас. Вот последний наш эвакуатор – три месяца как уволен – повёз умницу четырнадцати лет. Вагон плацкартный, на другой не имеем права. Она раз прошла по вагону, сделала глазки молодым людям. Второй раз прошла и осталась у них закусывать. Он за ней: «Вернись на место!» Она: «Нет!» Он: «Приказываю – вернись!» Эти, которые молодые, спрашивают: «Это кто?» Она говорит: «Мой дядя. Пользуется, что мама при смерти, и везёт меня к себе насиловать…» Он: «А-а… бе-е…» А что «а», что «бе»? Ни удостоверения, ни доказательств никаких. Его били всем вагоном и выкинули из поезда на ходу. Всё. Эвакуатора у нас нет. А везти ребёнка надо, двенадцать лет девочка. Уговаривал, уговаривал – уговорил нашу воспитательницу. Пенсионерка, контакт с детворой идеальный. Повезла. С перепугу привязывала шнурком за руку к своей руке, чтобы – задремлешь – не прозевать, как уйдёт. Та попросилась в туалет. Наша повела и караулит под дверью. Нет и нет. Она к проводнице. Открыли дверь – никого, и окно нараспашку. Ребёнок полез в окно убежать через крышу, сорвался и погиб. Лучшая воспитательница, ветеран, заслуженный работник ходит под следствием.
Женька, как школьник, поднял руку. Аркаша кивнул.
– Если ребёнок убежал – эвакуатору что?
– Самое малое – выговор.
– А что не убежал, как подтверждается?
– Расписка от родителей с указанием паспортных данных.
– А если я его сдал, а он в тот же день дал дёру от родителей?
– Именно так, как правило, и случается. Но родителям – ничего.
– Всё понятно. Мы согласны.
Толик, окрылённый удачей, исполнял музыкальными пальцами на баранке своей легковушки что-то торжественное.
– Боже сохрани, боже сохрани! – передразнивал он Аркашу. – А как возить мелкую шантрапу, так сразу и не «боже» и не «сохрани»!
– С развозкой шантрапы я и один управлюсь, – сказал Женька. – Ты дома нужнее.
– Но каковы малявки! – воскликнул Тоха, представляя возможные осложнения.
– Какие там малявки! – не согласился Женька. – Себя вспомни в четырнадцать!
– И я про то же. Вези и бойся! И гадай, когда и где тебя разведут на ровном месте.
– Гадай или не гадай, один чёрт останешься с носом, – авторитетно заверил Женька. – С ними, как с шулером: если сам не шулер – не садись играть.
– Заслуженная педагогичка и не хотела садиться – заставили. А мы сами напросились.
– Видишь ли… – Женька так пожевал губами, будто лизнул что-то невкусное. – Эти, с педагогической практикой… Среди них бывают неплохие люди, но нормальных я лично не встречал. Ну скажи – шнурком привязывать, караулить у параши… Нормально? А не садиться играть – это вот что: хочешь, деточка, со мной до дому доехать – милости просим, а нет – держи свой билетик, держи лично от меня пару копеек на представительские расходы и гуляй на все четыре стороны!
– А расписка от родителей?
– От кого? Как-как ты их назвал? Родителями? С этими – так. Приехал. Вломился.
«Телеграммы получали? Что ребёнок в приёмнике знали? Паспорт на стол!!!» И заполняешь расписку. А подписать – они у меня, если что, и кровью подпишут!
Сотрудники в глаза называли Илларионовича Кутузовым. Словоохотливый и гордый своей служебной опытностью, он изъяснялся притчами. В дежурке, нашем дневном пристанище, имелось два выхода – во двор и в кладовую вещей поступившей детворы, где были стены из полок-ячеек, похожих на соты, дверь в душевую, и где обитали, братаясь и враждуя, неподвластные проветриванию запахи ношеной обуви, грязных носков и нестиранного белья. Сама же дежурка, помимо ароматов, позаимствованных у кладовой, располагала тремя несокрушимо прочными стульями сталинской поры, у которых в верхней части спинки был вырезан рельефный герб страны, хлипким письменным столом нового времени, с почёрканной и исписанной от скуки столешницей, и полами из толстых досок, истёртых до степени, когда крепкие сучки выпирают кочками.
Я дышал сквозняком от неплотно прикрытой двери во двор и слушал.
– Служу, значит, я в Ленинграде, в знаменитых Крестах… – говорил Илларионович-Кутузов с той былинной напевностью и мечтанием в паузах, которые вырабатываются у людей, по роду занятий вынужденных брать измором служебные часы и минуты. – На дворе голодуха, народ весь в обносках, а я в форме, питают меня от пуза. Навернёшь картохи толчёной, напузыришься молока с пенкой, ремень попустишь, гуляешь туда-сюда по коридору, попёрдываешь всласть… И докладывает мне как-то один из шептунов, что мой напарник писульку с воли в камеру передал. У-вот…(слово «вот», заполнившее паузу, он вывел тягуче, предварив звук «в» звуком «у»). А я, значит, получить сведения получил, а начальству и не донёс. Не то что напарника поберёг, а так, проморгал, прошляпил… У-вот… А сигнал-то и окажись проверочный! Напарник, не будь дурак, писульку сперва в оперчасть занёс, а там заодно решили и меня… на служебную пригодность… Умели тогда, умели… И меня, сердягу, за Воркуту. Шахту, значит, под горой долбят, как пещеру. В пещере все и живём: глубже зека, этак вот, решёткою, ворота и мы. Три года отбыл день в день. Что называется, от звонка до звонка. Только что кайлом не махал. У-вот… Зато учёный… – и для закрепления морали соответствующе глянул на меня.
– У-во-от, – пропел он в качестве зачина перед новым сказанием. – Я тут этим, как их Яклич кличет, воспетам, многое чего… У меня за плечами такое – в учебниках не прочтёшь. К примеру взять детвору тутошнюю – правды от неё не жди, даже и не надейся. Они ему, значит: «Как тебя зовут, деточка?» Оно им: «Вася…» «А живёшь?» Оно: «В Курске, на улице Ленина». Они депешу в Курск. А Курск отвечает – нет у нас такого Васи и никогда не было. Они: «Васенька, так ты нас обманул? Може, ты и не Вася?» Може. Оно нос повесило – «Я, говорит, Петя из Кирова». Из Кирова стучат – нет такого Пети. Они его опять – оно в слёзы. И такое сплетёт – поседеешь, слушая. А дождись вестей – враки. И так их каждая вторая сопля за нос неделями водит! У-вот… И на что бы ты думал, я, младший чин, весь высоко образованный персонал наставил? Сколько народных де…
Кутузова на полуслове оборвал крик ревуна, от которого вздрогнуло, показалось, всё расположение. А он, ничуть не огорчась помехой, оставил бывальщину, чтобы бодро, по-командирски держась на шаг впереди меня, направиться к калитке.
Постовой в помятой несвежей форме и с кислым лицом тоскующего в городе деревенского хлопца, подталкивая впереди себя, заставил переступить порог чумазого пацанёнка лет девяти с прилизанной и чёрной, как панцирь жука, стрижкой и ударяющими дерзостью выпуклыми маслинами глаз. Из-за вальяжной походки и особой посадки головы казалось, что мальчишка выше и главнее нас всех.
– Эт вы его откуда? – спросил Кутузов, заняв место за столом.
– С уголовного розыска.
– Уголовного?
– Уголовного. Воно старуху з одного выстрела наповал.
– Иди ты! – диву дался Кутузов.
– Отож. Побирался по хатах, а та и нюни распустила, повэла до сэбэ нагодувать. Пока борща насыпала, воно у нэи в хати уси заначки перенюхало. Вона: «Ах ты ж такый-сякый!» И за ным. Воно вид нэи. Прыг на диван, с килыма двустволку цап. И бабце дробью усе облыччя всмятку.
Мальчишка, будто речь взрослых никоим образом его не касалась и ничуть не интересовала, со скучающим видом презрительно разглядывал захудалую вахту.
– И как же оно теперь? – растерянно поинтересовался Кутузов.
– А нияк. Якый с него спрос! По вашей части дознаться, хто воно такэ е. Та сопроводить по месту.
Чумазый убийца без спросу уселся на стул, закинул нога на ногу. На нём были заграничные белые кроссовки – несбыточная мечта всей молодёжи страны. Обувь была новой, точно по ноге и замызгана невообразимо.
Я проводил постового. Когда вернулся, Кутузов записывал в истрёпанную толстую книгу:
– Ильяс. Так. А фамилия?
– Ильяс.
– Так, – невозмутимо принял Кутузов, пропуская мимо ушей надменный тон мальчишки.
– А папу зовут?
– Нема.
– Кого нема – папы?
– Папы.
– А мама?
– Ушла на гости.
– А живёшь?
– Табор.
– А в школу?
Ребёнок презрительно фыркнул в направлении потолка.
– А читать?
Ещё одно «фе!» туда же.
– Ну вот какая это буква? – с лукавством манящего в ловушку спросил Кутузов.
Ильяс нехотя покосился на заглавие в газете, выдал через губу:
– Пэ.
– А эта?
– А.
– А эта?
Ильяс отвернулся и лизнул в углу рта складку запекшейся грязи, показывая, что эта буква ему неинтересна.
– Не огорчайся, – утешил Кутузов. – Тут школа, пока из тебя адрес-фамилию вытянут, и читать, и считать научишься.
– Считать и без тебя умею!
– Ну и молодец. Давай-ка будем раздеваться. Ты вещички снимай, клади на стул и говори, как называются. А я запишу.
Цыганчонок легко высвободился из рыжей дублёнки. Месяцев восемь назад мы с Женькой заказали морякам в Одессе что-нибудь наподобие и всё ещё ожидали привоза. Дублёнка была чуть-чуть великовата, он подвернул рукава, и новая с иголочки. Однако спилок у прорези карманов он успел замусолить так, что казалось, будто карманы оторочены лицевой чёрной кожей. Карманы на джинсах престижной фирмы тоже
лоснились от грязи, но удивило меня не то, как завозюкал он дорогую и редкую вещь, а то, что, оказывается, фирменные штаны бывают детских размеров.
Воду душа он пробовал с гадливостью дворового кота, которого взяли в дом и подвергают помывке. Мылился неумело и с омерзением, а смывалось с него что-то похожее на фиолетовые чернила.
В чистой, но старенькой байковой рубахе, в застиранных, с белёсыми разводами от хлористого порошка серых байковых штанах, похожих на шаровары, в ношеных, с дырами против пальцев тряпичных тапках на босу ногу, он поднимался на второй этаж всё с тем же видом начальствующего над нами. Повозившись с тапкой, которая якобы спадает с ноги, он дал отдалиться Илларионовичу и тихо, но внятно сказал мне:
– В одёже захована десятка. Скажу где – купишь мне сигарет на восемь? Два рубля твои…
Его «ты» отчасти маскировалось под детское, когда ещё не знакомы сложности этикета и круг составляют самые близкие. Отчасти – наивностью человека, быт которого связан с другим языком. Глаза, однако, выдавали, что причина в неприкрытом нахальстве и полном презрении.
– Нет, – невольно поддавшись заданной им секретности, сказал я в полголоса.
– А за три?
– Нет.
– А пять не жирно будет? – прошипел он с возмущением и так, словно я и вправду затребовал пятёрку.
– За пять тоже не договоримся, – посмеиваясь, сказал я.
– А за сколько? – выговорил он, и глаза его подались вон из орбит.
– Ни за сколько. Никак не договоримся.
Всерьёз огорчённый несовпадением интересов, он с надутым видом миновал лестничный марш; на площадке так, будто внутри у него было пламя, полыхнул фразой:
– Стыришь десятку – стоять не будет!
Я думать не думал о его десятке и усмехнулся в ответ на никчёмную угрозу, однако что-то суеверное, памятью по себе оставляя безотчётную робость, скользнуло по душе.
В учебном классе Кутузов представил меня средних лет воспитательнице, которая во врачебном халате за учительским столом переписывала что-то в журнал, похожий на нашу книгу записей.
Пока Кутузов с рук на руки сдавал Ильяса, я огляделся. Через распахнутые широкие двери видны были спальные палаты и игровая с бильярдом, телевизором и рядами тяжёлых карболитовых кресел из кинотеатра. Разновозрастная детвора с усердием, но и с баловством, возгоравшимся то там, то здесь, разбившись на стайки, вела уборку всех помещений разом. На подоконнике в позе русалочки сидела девочка лет пятнадцати с роскошными светлыми волосами – пышными, слегка волнистыми и падающими за кромку подоконника. Щёткой-расчёской с зубчиками в резиновой подушке она водила по разнотонно выгоревшим прядям и кобальтовыми глазами мечтательно и грустно глядела сквозь стену. Кто-то из пацанят или девчушек подходил к ней с вопросом, касающимся работ. Не изменившись в лице, движением большого пальца ноги, скрытого тканью тапки, она отдавала указание, которое детвора вприпрыжку неслась исполнять.
Подходил к ней и лоботряс – по виду лет двадцати, не меньше. Стриженный под ноль, в детских штанах по колено и в рубахе, едва прикрывающей пуп. Он спрашивал бархатным голосом и глядел с мольбой. Восторг, с которым он встречал приказы пальца её ноги, выхлёстывал из него командами мелюзге, подаваемыми лужёным басом.
– Которая на окошке – староста, – с охотою пояснял Кутузов в дежурке. – Мама завела по месту жительства дом свиданий. Соседи по коммуналке донесли, куда следует, и маму – таво. А дочка – дома. Ну и дяди по старой памяти – к тому же порожку попросить водицы напиться. Соседи в набат! Её, стало быть, к нам на время сбора бумаг для детдома.
А бумаг – кипа. И пока десятую отхлопочешь, первой срок вышел, приказала долго жить. Скоро год исполнится, как у нас. Своя. Воспеты души не чают, детвора при ней шёлковая, верёвки вей…
Мы посидели молча. Кутузов, не зная, чем занять руки, переложил книгу учёта на другой угол стола, спрятал в ящик ручку.
– Э-э! – спохватился он. – Я о народных деньгах не таво! Сколько их можно бы оставить в целости и сохранности… И чему бы ты думал, выучил я, вохра малограмотная, воспетов? Я для них изделал инструкцию ведения допросов. Изюминка в чём – спрашивай побольше и поподробнее, всё у себя записывай, а потом вертайся на второй круг, когда оно уже не помнит, что прежде брехало! Работает безотказно! Куда тому детектору лжи или как его – полиграхву!.. Без почты, без телеграмм дорогущих, без того, чтобы оно валандалось у нас неделями!.. Часок посидел с босяком и вывел голубчика на чистую воду. Не, бывают такие стреляные горобцы, которых на мякине не проведёшь. Которые беглецы со стажем – у тех легенда назубок, что у твоего шпиона. Врёт о дружке своём – и маму его называет, и папу, и место их работы, и адрес. Не собьёшь! И с места отвечают – всё точно, всё сходится, только ребёнок наш дома, вот он, при нас, за руку держим… С этими – да, с этих взятки гладки. А которые начинающие – на тех бы можно большую экономию навести… У-вот… Яклич отверг, – выговорил он, заново переживая былую неудачу. – Ему, конечно, оно виднее… — заметил он с набравшим от времени прочности старым несогласием.
– Не, ну он что говорит? – вгорячах взял Кутузов на тон выше. – Мол, коли так врут, стал быть, им там плохо, куда мы их сбыть торопимся. От хорошей, мол, жизни случаются беглецы, романтики. А так ведь от побоев бегут, от голодухи… Попустись, говорит, Ларионыч, не на свои мы их деньги содержим. Пусть поживут в чистоте, в сытости. Хорошую книжку прочтут на уроках, задачку решат. Надоест – сами запросятся.
Время – оно доктор. Для них – так уж точно. Время тикает, они вырастают…
Кутузов помолчал, наново примеряясь к доводам Аркаши.
– Прав? На словах – прав. А возьмёшь по отдельности каждого нашего шпындика – скажешь одно: драть некому.
Он ещё помолчал, жестами рук и подвижкой бровей выдавая, что всё ещё спорит, и наводя на мысль о силе настырности, живущей в этом маленьком человеке.
– Начальству виднее! – сказал он, закрывая тему, но без намерения забыть, что его обошли признанием.
Потом, всё с тем же неудовольствием косясь в сторону, вдруг спросил:
– А вы на что живёте? – и зорко глянул, следя за реакцией. – Все трое в достатке…
Я улыбнулся, осознавая, тем не менее, беспечность, с которой мы не подготовили легенды.
– Остатки роскоши!..
– Остатки сладки, когда знаешь, что и на завтра будет кусок… Вам, таким-то, тутошнего жалования – только облизнуться…
Он не выспрашивал, он пробовал рассуждать. С позиции дознавателя.
– Подрабатываем, – сказал я. И соврал. – Мы плитку кладём.
– Положите мне! – ловя на слове, оживился он.
– Не получится.
– Нет? – навострил он нюх.
– У нас зарок: своим не делать, – удачно нашёлся я. – Хочешь, говорят, испортить с сотрудником отношения – возьми у него заказ.
Ревун, словно нанявшийся пугать меня, ужалил Ларионыча бодростью. Он открыл женщине в форме, узнав которую по голосу, привстал на цыпочки, подтягиваясь к прорези, и приветливо отозвался:
– Люся, ты?
Люся из привокзальной детской комнаты милиции доставила заплаканную девочку лет двенадцати, домашнюю, чистенькую и с характером, с той внутренней стрункой, которая отличает девчонок, успевающих быть отличницами, капитаншами в спорте и заниматься танцами. Оживлённо обмениваясь с Кутузовым новостями, Люся между прочим сообщила, что девочка отстала в дороге.
– Удивляюсь, как долго не звонят, не ищут. Не хотела к вам, но ребёнку бы и поесть, и отдохнуть…
Приняв от Люси два экземпляра заполненного стандартного бланка, Кутузов сделал строгое лицо, нацелил ручку и, как бы репетируя подпись, расписался сперва в воздухе, над местом, предназначенным его каракулям. Затем, как на незнакомку, глянул на милиционершу и с подозрением – на предложенную к подписи бумагу. Наконец удостоверил-таки своей фамилией и должностью акт передачи ребёнка и, выдохнув с облегчением, снова беззаботно расцвёл, улыбаясь Люсе и млея при виде её дородности.
С большой неохотой отпустив минут через десять приятельницу, он уселся описывать вещи ребёнка. Девочка положила на стул вязаную шапочку с бубоном, вязаный шарф, пальто. Расстегнув пуговицу на кофте, она остановилась и с возникшим в глазах испугом посмотрела на Кутузова, на меня. Увильнув взглядом от её глаз, я с вопросом сказал Кутузову:
– Пойду-ка я пройдусь?
Он поднял глаза, понял и ответил строго:
– Ты эти глупости дома оставляй! Тутошний порядок работы – он, как армейский устав, писался кровью. Не хочешь накликать беды – знай присматривайся и делай, как заведено.
Девочка, сообразив, что мне, почти как и ей, в новинку строгости учреждения, глянула на меня с надеждой и сказала:
– Я не разденусь!
– Раздерешься, порядок ради тебя никто менять не станет, – ворчливо отозвался Кутузов.
– Не разденусь!
Кутузов привычно, как мастер, отложив не подошедший гаечный ключ, берёт другой, снял трубку с пульта внутренней связи, клацнул тумблером.
– Петровночка, – сказал воспитательнице, с которой знакомил меня утром. – Мне двух хлопчиков постарше – помочь одной умнице раздеться.
– Коники? – спросил в трубке усталый женский голос. И напрягся, выкликая. – Сумцов! И как тебя? Игорёша!
Девчушка пролепетала:
– Не надо…
– Что? – спросил Кутузов, не вкладывая никакого настроения.
– Я сама…
– Петровночка, отбой! – безразлично сказал Кутузов, наперёд знавший, чем кончится.
Последние вещицы она снимала в нервной спешке, бросала на стул.
– Веди, пусть моется, – сказал Кутузов. – Я допишу.
Она ступала босыми ногами, словно ранясь о грязный пол. Вся она была прорисована лёгким штришком, намёком на ту несомненную прелесть, какою станет через годик-другой. На пороге душевой, перед шагом на осклизлый прап она прошептала мне, боясь, не услыхал бы Кутузов:
– Там грибок! Меня из бассейна прогонят, я пропаду от позора.
Я взял с нижней полки тапочки, но в них лоснился след, наеложенный чужими ногами.
– Ларионыч, у нас тапки новые есть?
– Есть-то есть. Но на них же не напасёшься, горит!
– А где?
– Выше ячейку открой!
Пробуя воду и старательно смывая чужое с початого не ею куска мыла, она шепнула:
– Можно, я голову не буду?
Я кивнул, что можно и вышел в дежурку.
– Там на открытой полке, – сказал Кутузов, – полотенца, халаты, трусы и майки.
– Пацанячьи?
– А какие ещё!
– Я не надену этого! – отложила она в сторону застиранные сатиновые трусы. – Я не могу…
– Новее не нашёл, – шепнул я, оправдываясь.
– Не потому… Можно мне моё?
– Нет, наверное.
– Тогда не надо ничего.
– А как же ты?..
– В халате.
Я хотел возразить, но она умоляюще прижала ладошку к губам, и я махнул рукой.
Мокрые тапки повесили на дверцы ячеек; в полученных от меня новых она вышла в дежурку. Кутузов недовольно покосился на её сухую голову, но смолчал.
Когда девочка была в группе, а мы на своём месте, он посоветовал:
– На поводу у них не ходи, заведут! И в стеснялки играть мы не имеем права. Иначе они туда, – показал в сторону корпуса, – и лезвия, и чего только не протащат!
– Какие у неё лезвия!
– Поработаешь – увидишь! Вот ты её в новые лапотоши нарядил, а там с неё снимут, хорошо ещё, если без драки. Добреньким быть – оно не всегда к добру…
– Значит, надо всем новые давать! – огрызнулся я.
– Ага! Ты дома всем гостям новые выставляешь? И ты же в их шкуре у Яклича побывал, знаешь: они не нас боятся, страх у них – как там своя же босячня встретит. Такая же чистюля, я принимал, пронесла с собой расчёску. А у расчёски хвост – точная заточка. После отбоя в палате она старшую и пырни… Моё счастье, что к Якличу прислушиваются наверху, а то бы…
Перед отбоем детвору сосчитали по головам – шеренгу мальчишек и шеренгу девчонок – и заперли в палатах, при которых в больших отдельных комнатах имелись умывальники и разделённые кабинками унитазы. Тем самым Петровна передала ответственность дежурным по режиму. Проводив её за калитку, засобирался и Кутузов. По правилам один из нас дежурил сутки, а второй к уходу воспитателей в помощь ему выходил на ночь. Спустя два дня второй заступал на сутки, а первый обязан был отдежурить с ним ночь. Однако от ночных смен напарники самовольно освобождали друг друга, из чего и складывалось столь привлекательное сутки – пять.
Когда, надоедливо, но обстоятельно разложив по полочкам, как действовать в случае чего, Кутузов наконец-таки отбыл восвояси, я почувствовал, как устал от него за день и как хорошо одному. Я повалялся на койке в одной из резервных палат, потом испытал себя в меткости на бильярде и включил телевизор. Вскоре мне показалось, что кто-то тихонько постукивает из палаты девочек. Я приглушил звук, и робко зовущий меня сигнал обозначился яснее.
Стоило прибрать задвижку, как дверь сама приотворилась, и из палаты выскользнула, бесшумно и скоро закрыв за собой, русалочка-староста. Её волосы походили на накидку, кроме которой на ней была простыня, узлом завязанная на плече и оставлявшая голым весь левый бочок.
– Дмитрий Сергеевич, – шепнула она голосом надолго и понапрасну наказанного ребёнка, – можно мне телик посмотреть?
И робко глянула теперь почти чёрными глазами, в которых сиреневыми лампадками посвечивали два огонька.
– Можно, – сказал я, думая не о телевизоре, а о том, как её одеть. – Только одеться…
– Я постирала… – самым невинным образом соврала она.
– Принести другое?
– Не нужно, я не замёрзну, – ответила она так, будто дело было только в этом.
Она спросила, можно ли поменять канал и, присев на корточки, повернула туго щёлкнувший переключатель. И тут, словно включённый её рукой, рявкнул ревун. Я перетрусил куда сильнее, чем пугался днём, а она, низко пригнувшись, чтобы не мелькнуть в окнах, бесшумно улизнула в палату.
За калиткой, переминаясь с ноги на ногу, как у занятого туалета, стоял лысеющий мужчина, где-то потерявший или забывший шапку. Несколько волосин у кромок проплешин, полуживых, истончавших, стояли вертикально вверх, плавая в воздухе, как паутина.
– Дочка… Сказали – у вас…
Я понял, кто он, и из-за того, что повеяло перегаром, горько пожалел мою сегодняшнюю отличницу и пловчиху.
Кутузов не научил, как оформлять уход ребёнка. Чтобы внести потом в документ, я переписывал данные из его паспорта, а она за дверью кладовой переодевалась у ячейки с её вещами. Облизав сухие губы, родитель спросил:
– Тата, зачем ты так?
– А я просила тебя, просила?
– Просила.
– А ты?
– Таточка, ну так уж оно как-то…
– Я говорила – или это или я?
– Таточка…
– Нет больше твоей Таточки! За этот день со мной такое…
– Что, Татуся, что ты говоришь, деточка?
– Я больше не деточка. Забудь.
От этих слов, произнесённых холодно и твёрдо, двоим, и ему и мне, сделалось не по себе.
Она вышла застёгнутой на все пуговицы, в шарфе и шапочке. Сложенный в квадратик халат положила на сиденье стула, тапочки (новые!) поставила рядом на пол и спросила меня взглядом – так?
Что-то ещё было в её глазах, кроме этого чуть-чуть задиристого вопроса. Меня удивило, какая она взрослая; возникла уверенность, что взгляд её хочет передать что-то совсем не детское. Я ожидал укора, но было другое. Она прощалась со мной. Как мы прощаемся навсегда с чем-то, что останется нашим на всю жизнь.
И я подумал и, кажется, ответил, ничуть не покривив душой, что и она останется во мне.
Выйдя за калитку, он напомнил заученно:
– Что надо сказать, Таточка?
Она измерила его от раскисших ботинок до лысеющей головы, а потом другие её глаза полную, отлитую в неразменный слиток времени секунду, как урок, повторяли для памяти моё лицо.
*****
В таборе, который, будто мусор из кулька, рассыпался по заснеженному лугу, они, Толик и Женька, с трудом выманили из машины совсем не такого Ильяса, какой на глазах у детворы развязно усаживался туда в приёмнике. Дорогой он делался всё тише и незаметнее. Лицо, нарочно умытое перед отправкой, бледнело, покрываясь грязно-серыми пятнами, и не было сомнения, что это проступает наружу пропитавший всё его существо страх.
Худой, болезненный и невзрачный вожак прикрикнул коротко и недовольно на женщин, что-то приказав, а приехавших усадил напротив себя в войлочном балагане с завесой на входе, такой же замусоленной, как карманы на дублёнке Ильяса.
Слушал молча и безразлично. Принесли водку и грязные гранёные стопки. Толик в позыве брезгливости поспешно обезопасил себя тем, что он за рулём. Женька просто отверг выпивку, предложив хозяину заполнить расписку о получении ребёнка. Тот успокаивающе кивнул и вышел. Через несколько минут, ногою ловко управившись с пологом, в шатёр вошла девочка с кованой сковородой, диаметром сравнимой с днищем бочки, в которой причмокивало и пшикало тонко наструганное мясо. Аромат свежайшего парного мясца, не тронутого приправами, острыми коготками вонзился эвакуаторам прямо в железы под подбородком.
Вернулся хозяин, жестом снова предложил выпить. Женька, сдаваясь, отчаянно махнул рукой, а Толик, сглатывая слюнки, предвкушающе потёр ладонью о ладонь.
Немного захмелев и подкрепившись поджаркой, приезжие вежливо напомнили о деле. Старший потупился, будто заранее стыдясь того, что скажет:
– Я подпишу, и вы, конечно, можете уехать. Но мы его прогоним. Кто убил – тому в таборе нет места.
Обратно в машину Ильяс садился без принуждения, но выглядел он так, как может выглядеть человек, приговорённый к пожизненному. Никто не вышел проститься, никто из хлопотавших под открытым небом не глянул в его сторону. Мальчишки больше не существовало для них.
Пацанва встретила возвращение цыганчонка шумным ликованием – воспитатели взялись за головы. Вирус самого непредсказуемого пакостничества возвращался с ним в коллектив.
Остаток рокового для него дня Ильяс провёл тихо, отгородившись ото всех мрачной угрюмостью. ЧП случилось в свободное время следующего дня, когда, завершив уборку, сели смотреть телевизор. Воспитательница из-за учительского стола, поставленного позади рядов, обнаружила, пересчитав головы, отсутствие одной. На месте не оказалось Ильяса.
Его искали до отбоя. Вечером, заперев детей в палаты, на совете с дежурными по режиму решились на крайнее – звонить в милицию. И тут в игровой, где, собственно, и совещались, под тяжёлым подоконником шевельнулась реечная решётка, скрывающая батарею отопления, и выполз на свет божий жалкий и скрюченный, словно сживаемый со свету скоротечной болезнью, Ильяс.
— Зачем?! Что ты там делал?! — набросились на него.
— Плакал…
*****
На русалочку-старосту паче чаяния выправились бумаги, она переехала в детдом, а оставленную ею власть прибрал к рукам ополчившийся на весь мир Ильяс.
Кутузов, зачуяв неладное, не скостил мне ночь, и я договорился о подмене с дежурным из другой смены, тоже отставником из органов.
Заперев после отбоя палаты, деды не пригубили за вечерним перекусом, как предполагал мой подменщик: на душе у Кутузова кошки скреблись. Приглушённый телевизор он слушал вполуха, на крик в палате мальчишек влетел, как молодой.
Дрались пятеро. Кутузов разнимать – не тут-то было. Он кликнул второго, и стоило тому войти, как вся палата бросилась на них.
Дедов, как буйных, примотали простынями к койкам. Ильяс под возню со связыванием разул Кутузова и с глубоким удовлетворением приобулся в его хромачи.
У обездвиженных отняли связку ключей, переоделись. Ильяс поверх своей дублёнки напялил тулупчик Кутузова, на который, как и на хромачи, давно положил глаз, и опоясался портупеей. Потом предусмотрительно оборвали телефонные провода и дали дёру. Ильяс требовал рассыпную, но пацанва, сбежавшая не сама по себе, а с ним, липла к нему, как к магниту.
Зато девчонки бежать отказались. Им как-то не улыбнулось шастать ночью и в стужу бог знает где. Последнее обстоятельство крепко выручило убелённых сединами профессионалов. Их развязали, и оставшийся при обуви кинулся к ближайшему автомату звонить 02.
Наряд с собакой пошёл по следу. В критический миг Ильяс юркнул под голубую ёлочку возле райкома. Он знал – собака пойдёт за бегущими. Так и случилось. И он, пожалуй, ещё бы долго щеголял в тулупе и хромачах, столь любезных его цыганской душе, когда бы служебный пёс на сшиб удиравшего мальчишку и тот бы не завопил:
– Дядя, уберите собаку, я покажу, где цыганча!
А днём, когда бурно обсуждалось происшедшее, Аркадий Яковлевич передал через меня Женьке приказ незамедлительно сопроводить к мету жительства другого потенциально опасного ребёнка.
Это была хорошенькая бойкая барышня четырнадцати с половиной лет, помеченная самого неприятного рода заносчивостью, свойственной иногда детям милицейских работников, поймавших скорую карьеру. Её мама, брошенная свежеиспечённым начальником райотдела, желая без помех поискать себя в личном, спровадила на лето ребёнка под Чернигов к бабушке. И вскоре получила письмо, слёзно просящее забрать её обратно. Маме писала её мама, что от стыда не может выйти к колодцу, потому что внуця вытоптала с солдатами все огороды. Не допуская и мысли о том, чтобы забрать дочь, родительница телеграммой вызвала её на телефонные переговоры в местное отделение почты.
– Сдала меня, крыса старая?! – рыкнула внуця после сеанса связи. И, собрав пожитки, изо всех своих юных сил шваркнула на прощанье дверью.
В Киев проходящим поездом она прибыла в 19-00, а в 21-00 в найденной согласно вековечному принципу «свой свояка» новой компашке тусила вблизи ресторана. Смазливых девчушек, стреляющих глазками, цепляли настроенные гульнуть мужички. Они отвечали прилично одетым и не склонным к буйству, но в ресторан не шли.
– Там дорого и нудно! – убеждали юные чаровницы. – Лучше закупиться в гастрономе и упасть к нам.
На радостях счастливец сгребал с прилавка всё, на что указывали бойкие пальчики. А в гостях, куда его приводили, уже сидела за столом шумная молодая компания, по преимуществу пацанячья. Встречали приветливо и попросту. С благодарностью принимали принесённое угощение и предлагали своё. Закусывая, вели радушную беседу. И если гость вызывал симпатию, а его кошелёк способен был осилить хороший подарок, ему даже перепадало то, ради чего он потратился. Но чаще он не был достаточно мил и состоятелен. Тогда наиболее умный, поужинав с воспитанной молодёжью, мирно раскланивался. Тот же, кто, распустив слюни и считая, что вправе, начинал добиваться интима, оказывался с глазу на глаз с двумя-тремя крепкими, почти трезвыми и рассудительными парнями, которые говорили, что приняли гостя, как родного, ничем его не обидели и теряются в догадках, с чего вдруг он раскатал губы на их тёлочку…
Так длилось до зимы, когда примелькавшимися симпатягами заинтересовались постовые. Мама не поехала за ней и в Киев. Оттуда, из приёмника, сопровождающий нашёлся только до Харькова, а до дома, в Астрахань, Аркаша приказал немедленно увозить барышню после того, как из-за неё в первый же день передрались пацаны.
В учебном классе, где каждый из беспризорной братии получил посильное задание, но убивал по-тихому время приличествующим его летам и смётке баловством, у учительницы, глянувшей на него, как на памятник, ненароком сошедший с постамента, Женька шёпотом отпросил назначенную ему спутницу.
За дверью отвёл её в тупик, к окну, где без церемоний развернул к свету, придирчиво, почти брезгливо, прошёлся взглядом выпуклых, размыто-серых глаз по её причёске, тельцу, которое не под силу было укрыть от них халату, и лицу. Когда взгляд задержался на подкрашенных сиреневым и подвазюканных по кромке чем-то чёрным её веках, губа под шёлковым усом глумливо дрогнула.
– Намазалась фуфлятиной… Смоешь начисто, по виду мне нужен невинный ребёнок. Теперь так: мухой в кладовку, взяла свои бебихи и постирала-погладила. Времени на всё – до девяти завтрашнего утра. Будешь выглядеть дешёвкой или лахудрой, я с тобой не поеду.
Утром она вышла к нему в коротком жакете из чернобурой лисы, неуместно шикарном, косо сидящем, по всем видимостям, с чужого плеча. Не зная маршрута её передвижений, он подумал бы – в мамином. Внизу были ношеные чистенькие джинсики, из которых она выросла за лето и осень, и большие на неё ботинки «милитари», неуклюжие, но забавно пошедшие бы к ней без жакета. Волосы после едкого мыла дыбились в разные стороны, зато отмытое личико, взволнованное смотринами, было очаровательно.
За спиной она прятала узелок из белой наволочки с сухим пайком на дорогу.
Женька, нажав на золочёную защёлку, открыл дорожный сак из светлой натуральной кожи. Разинув его зев, бровью научил её, как избавиться от узелка. Похоронив в саквояже компроментирующую ручную кладь, она просияла, обрадованная этим избавлением и окрылённая тем, что её внешний вид принят.
За воротами Женька недвусмысленно приподнял локоть. Боясь обмануться, она заглянула ему в лицо и взяла под руку, опустив перед этим глаза, прячущие лукавое.
Вблизи железнодорожных касс он вынул бумажник и протянул ей деньги. Она откачнулась, не понимая.
– Бери, тебе на дорогу. Ты куда хочешь ехать?
«Ничего себе вопросик!» – вытянулось её лицо.
– Как, то есть, куда?
– К бабушке в Чернигов, к ребятам в Киев? Куда скажешь, туда и билет возьму.
– А вы? – пролепетала она потерянно и с испугом.
– Я в Астрахань, к маме твоей.
Она тихо и так, словно в этом направлении ей уже отказано, спросила:
– А мне – в Астрахань?
– Можно и тебе, если хочешь.
– Хочу, – попросила она голоском бедной родственницы.
– Угу, – понял он и направился не в хвост, а в голову очереди.
Со вчерашнего дня она думала только о нём, а сегодня, когда он предложил ей руку, когда у кромки дороги шевельнул пальцем в перчатке, которая цветом и выделкой сливалась с кожей саквояжа, и чужая машина безропотно подкатила, распахнув дверцу… И теперь, после этого, ни в какие ворота, предложения ехать туда, куда она хочет… И когда очередь перед билетной кассой от одного его взгляда сама собой отпятилась назад… Теперь она уже знала, что он не только выглядит, но и есть что-то небывалое, что-то такое, что не могло встретиться в её жизни без знака, без участия судьбы.
Она не отваживалась поверить, но настроение и эта лёгкость, которая так и подзуживала приподняться и зависнуть в воздухе, убеждали, что что-то сбывается… Сбывается.
– Покатим в служебном, – сообщил он, книжной закладкой опуская билеты в бумажник. – Тесновато, зато без свидетелей.
В узком купе с одной верхней и одной нижней полкой он, ухаживая, как за взрослой, принял её жакет, повесил на тремпель. В быструю-пребыструю разведку сгоняв взгляд, она узнала, что он одобрил рубашку из тёплой ткани в светлую и тёмную клетку, которую она выцыганила у одного из киевских парнишек, накинув и увидав, насколько она ей к лицу.
Диковинным гребнем, зубчатым в обе стороны и состоящем из четырёх – от очень тесной и до разреженной – расчёсок, он пригладил львиную гриву, а густой четвертинкой гребня прошёлся по усам. Эти его мужские вещицы – сак, перчатки, часы, гребень – редкостные и необычные, как и он сам, составляли вместе что-то уютное, добротное, необходимое и словно бы сплочённое против всего иного, заурядного мира. Неся каждая свою службу, вместе они были ещё и доспехами – защитой и рыцарским отличием. Они восхищали её, делая, однако, его недоступным, недостижимым и заставляя её казаться себе самой никчёмной и неинтересной.
– Куришь? – спросил он.
– Курю, – сказала она, наскоро примерившись перед этим, как лучше – врать или не врать.
Возникли и легли на столик пахучие сигареты и зажигалка, броская и замысловатая, как герб на доспехах. Из сака он достал прозрачный коробок, в котором просматривались мыло, бритва, зубная паста, и снял с дужки казённое полотенце.
Вернувшись, спросил, предлагая свой набор:
– Пойдёшь?
К её приходу на столе уже было несколько стаканов с чаем, открытая конусная стеклянная баночка с погружёнными в масло ленточными ломтиками розовой рыбы, сваренные вкрутую яйца из её узелка и хлеб.
– Завтракала?
Она заметила, как выгодно с ним говорить правду.
– Не успела.
– И я не успел.
Возник нож, облепленный по рукояти двумя десятками по замыслу полезных, но никогда не применяемых финтифлюшек, и она подумала, что этим вещам, к которым она уже ревнует, не будет конца.
Свежий хлеб из узелка, податливое от тепла масло, яйца, тающая во рту солёная рыбка… Он ел, ничуть не скрывая удовольствия, которое доставляет еда его могучему, рассчитанному на обильную заправку телу. В согласии с ним бойко кушала и она.
– А вы не похожи на сотрудника.
– Да я, – усмехнувшись, – в общем-то и не сотрудник. Пришибились тут (чуть не сказал – у вас) в приёмнике с ребятами, чтобы по статье о тунеядстве не загреметь. Поцапались с начальством на бывшей работе и с милицией, воюем теперь на два фронта, а между делом вот загулявшихся детишек по домам развозим.
– Загулявшихся… – повторила она, примеряя на себя. – Осуждаете?
– Я?! – промычал он полным ртом. – Да я сам с четырнадцати по углам скитаюсь, – прожёвывая, торопился сказать, – до сих пор места себе не найду!
– Вы?!
– Я.
– Ну, нет, ну не может быть!
– О, ещё и как может! Ехать нам долго – хочешь, расскажу?
– Конечно!
– Только начинать надо с самого начала, от печки. Вот говорят, что старших обсуждать не педагогично. А что же делать, если они показывают нам пример! Я классу, наверное, к пятому, к шестому уже твёрдо знал, как жить не буду.
Ломтик нарезанного ещё кухней хлеба Женька намазал маслом для неё и готовил второй себе.
– Первый образчик – родной мой папуля. Он за стакан кулаком вышибал калитку. Бух кулачищем – стакан водяры. Идут дальше. Бух – стакан. А я реву, сопли размазываю, упрашиваю пойти домой. Знаю уже, что там будет после пяти калиток. Считается, что мы родителей любить должны и всё такое… А я бы – веришь? – не отправься он сам по себе в мир иной, не замёрзни под забором, – я бы ему помог!
После этих страшных слов, произнесённых под смешок, как бы шутейно, она коротко глянула ему в лицо. Зрение успело ухватить запорожский, бульбою, нос и бунтующие ноздри.
– А второй примерчик – уже папуля названый, – продолжил он, издевательски смакуя фразу и наслаждаясь откушенным бутербродом. – Ещё одно чудо в перьях! В юности оно запало на самолёты, полезло, понимаете ли, в конструкторы, в умники. За что и схлопотал десятку перед войной. А освободившись, больше всего боялся занять заметное место. Зарабатывал, гадёныш, копейки и весь переключился на экономию…
Женька богатырским глотком отхватил из стакана чай, который уже не обжигал, как вначале, и продолжал так, словно рассказывал о чём-то, доставляющем ему удовольствие.
– Как-то на Новый год достал магазинную уточку. Сам готовил, сам нарезал порциями – по счёту, чтобы на два дня. А к завтраку после праздника не досчитался одного куска. А? Как тебе происшествие? И ему, извольте видеть, захотелось, чтобы я признался. Ведь некому больше. Ну, кому было схавать, если не мне, вымахавшему, как бурьян, с кулаками, как гири, с несуразными ногами, прибавляющими в сезон по два размера? Кто, если не я, вечно косящий, что бы сожрать, вечно подъедающий за матушкой? А я не брал утки!
Тут ей показалось, что он тряхнул головой и выдал деревянное «ха-ха!», чтобы не поддаться спазму, прихватывающему гортань. Она ещё раз коротким взмахом вскинула взгляд, и теперь отметилась первым планом крошка яичного желтка, засевшая в глянцево отсвечивающей каштановой с подпалинами бороде. Её потянуло снять эту крошку, чего она, конечно, не решилась сделать, но это, что не решилась, лишь усилило накатившее вдруг желание позаботиться о нём, как о маленьком.
– Я не боялся признаться. Но я не брал. А выходило – умял тайком и бздит. И я ору петушиным басом, что нет, а мне: ну ничего страшного, но признайся! Эх, как хватаю я отчима за горло и – башкой о шифоньер – шарах его, шарах, шарах, шарах!
Ликующий мстительный огонь вспыхнул в её глазах, впервые прямо и не мигая поднявшихся к нему.
– Зеркало в куски, кровища, а я остановиться не могу.
Он принялся за третий стакан, осушил его в два глотка.
– И ушёл из дома. И по сей день в ушедших.
– Ты не против? – сказал он после паузы и уже другим голосом. И поправил подушку, чтобы полуприлечь.
Для пепла он свернул козью ножку из бумажной салфетки и с тем же наслаждением, с каким пил и наедался, закурил. Она тоже взяла сигарету. Когда подточенный тлением навис хвостик пепла, он просто, как предлагал руку, чтобы идти вместе, приподнял свой, рогулькой, кулёчек. Она стряхнула нагар, и эта незатейливая услуга, предложенная и принятая, вдруг подтолкнула к доверию и чувству некоего равенства – не во всём, но в чём-то очень важном.
Её опыт общения с мужчинами и мальчишками утверждал, что близость есть необходимое и главное, если не единственное, что держит вместе. Она подумала – а вдруг и он захочет близости? И ей стало страшно. Почему-то ей показалось, что она сгорит со стыда, хотя, конечно, не посмеет и пикнуть, возражая. И не успела она подумать это, как он сказал:
– Поиграем?
Сказал без нажима и без стеснения. Сказал до того буднично, что это не могло не оскорбить.
Оглушённая обидой, она в спешном порядке искала причины оправдать его, и думала, что в устах многих других не находила в похожих предложениях ничего зазорного. Ещё ей пришло на ум, что он знает, не может не знать о её похождениях в селе и Киеве, и она почувствовала, как всё рушится – всё, что она нафантазировала о нём и себе. И чуть не прокричала в мыслях – как же, как же он, такой хороший и такой умный, не понимает, что там всё было назло! Назло!
С пунцовым лицом она поднялась, чтобы запереть изнутри дверь, и осталась на ногах, ожидая, что велят делать.
– Я не о том! – воскликнул он, стараясь не рассмеяться и смехом не уколоть её ещё
больнее. – Я предлагаю поиграть в правду.
Она подняла раздосадованные, но уже готовые к примирению глаза, а он похлопал ладонью по мякоти дивана, зазывая её обратно.
– В какую правду? – спросила она, вернувшись.
– В простую. Говорить о себе всё, как есть. Это интересно.
– А о чём?
– О том, что я спрошу. А я – о чём спросишь ты.
– Ладно, – с оглядкой согласилась она, всё ещё ожидая подвоха.
– Чур – я первый спрашиваю! Скажи, вот ты путешествовала. Что было самое-самое для тебя?
– Много чего было… – проговорила она, задумавшись и очень стараясь не покривить душой. Так стараясь, что у неё наморщился лобик и показался кончик языка, без цели гуляющий по верхней губе. – Много… И… И ничего не было… – сказала, с сомнением всё ещё перепроверяя себя. – Ничего. Для меня – ничего такого.
– Хм! – выдохнул он удивлённо. – Как ты сказала интересно – много и ничего для меня.
Он ощупью нашарил пачку на столе, закурил. Поезд давно придерживал ход, теперь остановился. По коридору тяжело, с вещами, прошли люди. Возникли голоса на перроне. Стояли минут пять, он всё курил, разглядывая её лицо и будто прислушиваясь к движению там, на твёрдой почве. Тронулись так плавно, словно опасались кого-то разбудить – либо хотели от кого-то улизнуть незаметно.
– Ты так сказала, что я подумал о своём. И знаешь, мне кажется, что у меня, кроме
одного раза, ничего не было за всю жизнь.
– Так не бывает! – не согласилась она, свято уверенная, что весь мир только и должен делать что-нибудь удивительное для него.
– Много ты знаешь, что бывает и чего не бывает! А ведь я старался. Чего только не выкомаривал! Женился со всякими кандибоберами, разводился…
– Женились?
– Шесть раз.
– Ше-есть?..
– Шесть. Всё для себя, и почему-то всё – мимо меня. Во как! Даже интересно…
В его стаканах не осталось чая.
– Можно твоего?
Отлил немного в свой стакан, выпил.
– А к тому, что было самым-самым, я не прикладывал руки. Оно само собою. Рассказать?
– Конечно! – ответила она почему-то шёпотом.
– Женщина погладила меня по голове. Мне было столько же, как тебе сейчас. А ей… Не знаю. Что-то около того, как мне сегодня. Я жил у неё в комнате, отгороженный книжной этажеркой. И как-то она мимоходом тронула мою голову. А вышло, что погладила самоё душу…
Не дождавшись продолжения, ещё тише, чем прежде, она спросила:
– И всё?
– И всё. А я напридумывал потом вокруг этого всякой пошлятины. Столько всего
наврал – тошно вспомнить.
– А как это было? – произнесла она еле слышно и заметно волнуясь.
Он приблизил руку к её волосам, которые, рассорившись все со всеми, плавали по отдельности каждый в своём электричестве, и тихонько попробовал их пригладить, не коснувшись головы.
Она затихла с закрытыми глазами, а он некой подсказкой, толкнувшейся в нём, расслышал, что это прикосновение нельзя не оставить единственным – иначе оно не сохранится в ней наивысшей ценностью её жизни.
Потом она легла спиной к нему, каким-то чудом уместившись на полоске дивана, не занятой им, и руку, гладившую её, забрала в свои руки.
Он глядел куда-то сквозь верхнюю полку, повторяя про себя одну и ту же вдруг возникшую мысль. Хотя, скорее, с ним оставалась не мысль, а чувство, приведшее к ней. Он подумал, что в загадке того прикосновения, в этом ларчике, который так долго оставался для него тайной за семью печатями, не было – как нет и сейчас у этой малышки, прикорнувшей рядом, – не было ничего, кроме его, а теперь вот и её, сиротства.
Георгий Кулишкин
Рисунок Оксаны Бочарниковой.
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке


