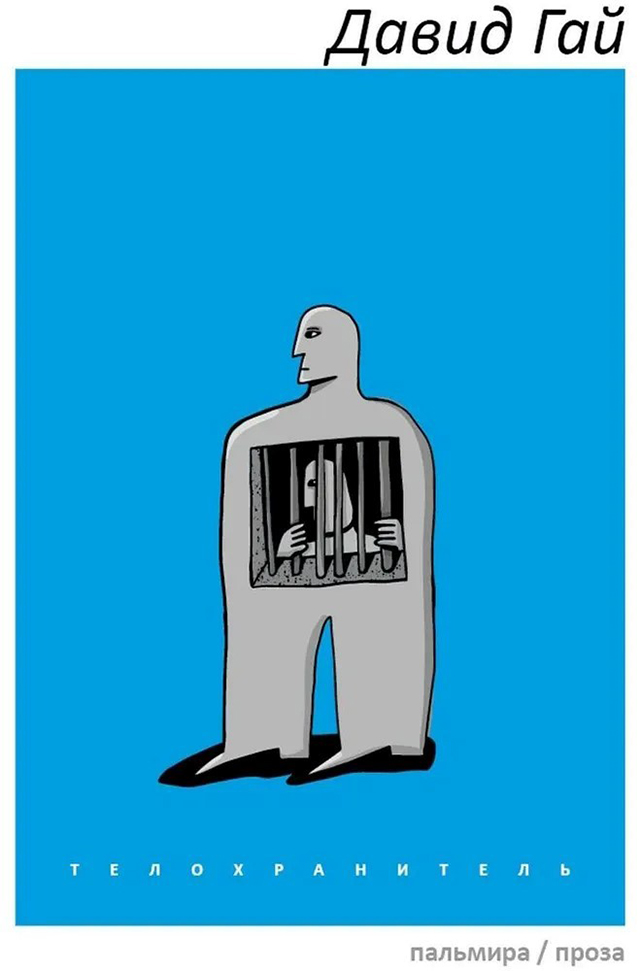ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Главы из повести
На днях в России в издательстве “Пальмира” переиздана повесть Давида Гая “Телохранитель”. Книга уже представлена на основных российских интернет-площадках, прежде всего, в интернет-магазине Озон.
Повесть рождена Перестройкой. В конце 80-х – начале 90-х она входила в список бестселлеров. Вот краткая аннотация к повести. “Охранник Лучковский верой и правдой служит главному «бесу» Сталину, ввергнувшему страну в беззаконие и репрессии. Не сразу и не все он понимает, так как тоже дитя века, тоже сформировался в эпоху сталинизма. Тем выстраданнее его прозрение, тем сильнее ощущает он сокровенный смысл «закона сохранения вины», которому подвластны все жившие в то страшное время: и палачи, и жертвы”.
Аннотация отражает, естественно, далеко не все сюжетные линии книги с детективным закрутом, однако подчеркивает главное: герой повести и вместе с ним автор мучительно размышляют, существует ли «закон сохранения вины», иными словами, существует ли личная вина за происходящее в стране? Можно ли избыть, зачеркнуть в душе и памяти события преступной эпохи, к которым ты был причастен в той или иной, пусть даже в самой малой, мере? И в конце концов, несет ли коллективную ответственность за содеянное весь народ? Согласитесь – об этом уместно размышлять в связи с с происходящим в Украине…
В нынешней путинской действительности, когда войну под страхом тюремного срока нельзя называть войной и за критические посты в Сети и публичное чтение смелых стихов дают по семь лет лагеря, выход жестко-антисталинской книги – гражданский поступок российских издателей.
***
Мы публикуем главы из повести, и спустя почти 40 лет после выхода в свет не утратившей актуальности, звучащей сегодня более чем злободневно.
…Человека этого Сергей Степанович приметил не сразу, а только на четвертый день своего пребывания в пансионате.
Вероятно, он приехал позже, не в дни заезда, а может, просто не попадался на глаза. Столкнулись они у овощного стола, на котором перед обедом выставлялись в глубоких тарелках вареная свекла, фасоль, мелко нашинкованная капуста и морковь, а иногда редиска и огурцы. Человек этот шел сбоку, и, увидев его, Сергей Степанович вздрогнул и испытал легкое беспокойство.
Что-то побуждало, властно требовало неотрывно смотреть на него, но что – не мог уяснить. Лицо незнакомца со странным скорбно-надменным выражением не было красивым, вовсе нет, однако и стертым, блеклым, бесприметным его никак нельзя было назвать. Особенностью, своего рода достопримечательностью его служил нос – прямой, тонкий и хищный, и он-то в сочетании с поджатыми губами, острым, усеченным, как конус, подбородком и неподвижными, словно застывшими глазами создавал впечатление горькой отрешенности и вместе с тем некоей подспудной гордости и отчасти даже высокомерия. Даже в плотной, вязкой, однородной массе, улиткой ползущей в часы пик по переходу столичного метро, Сергей Степанович выделил бы это лицо, остановил на нем взор, тем более здесь, в столовой пансионата, где не затурканные и не замордованные ежечасной городской спешкой люди волей-неволей приглядываются друг к другу.
Как ни странно, случайная обеденная встреча не прошла бесследно; направляясь на пляж или возвращаясь в свой номер, Сергей Степанович непроизвольно выглядывал долгоносика, как он теперь называл его про себя. Того нигде не было видно. Лишь в столовой им нет-нет и приходилось сталкиваться взглядами: заинтересованно-ищущим у Сергея Степановича и отстраненно-безразличным у долгоносика. Сидел незнакомец справа через три стола, почти не разговаривал с соседями – двумя женщинами и мальчиком, сыном одной из них, – весь в себе, нахохленный и немного смурной, как мог уловить Сергей Степанович, помимо воли ведущий за ним скрытое наблюдение.
Он не мог отрешиться от ощущения, что где-то когда-то видел этого человека. Но где, когда? Оттренированная, изощренная, обычно услужливая память, на которую он не мог пожаловаться, на сей раз хранила молчание.
Однажды после ужина, дождавшись, когда долгоносик покончит с едой и выйдет из зала, Сергей Степанович невзначай прошел мимо его стола и глянул на лежавшие у хлебницы талоны на питание, получаемые при оформлении путевки. В каждый талон вписывалась фамилия отдыхающего. Долгоносик значился как “Шахов Георгий Петрович”. Шахов… Фамилия не говорила абсолютно ничего. И, однако, Сергей Степанович продолжал пребывать в незавидном состоянии человека, натужно, мучительно и безуспешно силящегося вспомнить нечто весьма важное. Натура упорная и даже упрямая, он не мог, вернее, не хотел выбросить из головы эту блажь, А она ускользала, рвалась паутинкой, не давая и малейшего намека остановиться на чем-то более или менее определенном. Сергей Степанович начинал злиться на себя, а это был верный признак того, что вскоре упорство его будет вознаграждено.
Произошло это ночью, во сне, глубоком и непрерывистом, зримо ярком и неправдоподобно точном в деталях, будто память наконец-то сжалилась и извлекла из нужной ячейки своего беспредельного склада образов единственно необходимый, связанный с дневными раздумьями Сергея Степановича.
…Мимо него не спеша втекают на Красную площадь празднично одетые люди, поодиночке, парами, группами, а он, стоя спиной к Историческому музею, вонзается в них колючим ищущим взглядом, задерживаясь на каждом лице доли секунды, и, не обнаружив того, кого ищет, продолжает лихорадочный поиск, взвинчиваемый предчувствием близкой удачи. И вдруг толчок, остановка дыхания, озарение – вот он, характерный острый профиль, который не спутать ни с каким другим. Он продирается сквозь людской поток к мужчине в плаще-пыльнике кофейного цвета и шляпе пирожком, как бы невзначай обнимает его, внезапно прижимает его руки к туловищу, лишая возможности оказать сопротивление, и начинает выталкивать из толпы…
Что-то защемило изнутри, Сергей Степанович обмер и очнулся. Загнанно билось сердце, лоб и щеки покрыла испарина. Секунду-другую приходил в себя, сбрасывал ватное оцепенение, соображая, на каком он свете и сон ли, явь ли привидевшееся душной южной ночью под неумолчное пение цикад и вздохи близкого моря. И сон, и явь вперемежку, так внятно и ощутимо, точно на самом деле происходившее много лет назад зачем-то вернулось к нему сейчас тревожным, мучительным отзвуком.
Но почему, по чьей странной прихоти выплыл из небытия остроносый мужчина, арестованный им, Лучковским, тогда, первого мая пятьдесят второго, на подходе к Красной площади? Не потому ли, что незнакомец по фамилии Шахов удивительно похож на него, словно сын на отца? Сергей Степанович вздрогнул от нечаянно сделанного вывода. А ведь и впрямь они чудовищно, неправдоподобно похожи. Эти стреловидные, хищные носы… Спутать Сергей Степанович с его п р о ф е с с и о н а л ь н о й памятью вряд ли мог. Вполне вероятно, что долгоносик на самом деле сын того, в кофейном пыльнике. Даже очень возможно. Надо же – повстречались спустя полжизни, и где, на курорте.
До утра Сергей Степанович не сомкнул глаз. Зажег ночник у изголовья, попробовал читать — тщетно, мысли лезли совсем иные. Взбудораженный внезапным открытием, всколыхнувшим то, что он хотел бы навеки похоронить, как радиоактивные отходы, но что постоянно сидело в нем, как в засаде, Сергей Степанович вступил в поток, и течение властно заволокло, утянуло его в кипящую воронку, тяжелым грузом кинуло на дно, где роились разного рода воспоминания.
…Месяца два он, молодой сотрудник охраны Лучковский, ходил по территории Кремля обалделый, тщательно скрывая свое состояние. Как ни странно, связано это было не только с его новой службой, хотя свой отпечаток на нем она оставила с первых же дней. Открывшийся перед ним ранее неведомый мир захлестнул и подмял его, маленького человечка, очутившегося один на один с невиданной красотой, и это стало главным ощущением первых дней и недель, проведенных им в Кремле.
Особенно часто Сергей забегал на Соборную площадь, одетую в кружево лесов с переплетами подмостей – шла реставрация. Заглядывая внутрь Успенского собора, глотая запахи пыли и краски, он замирал, завороженный. Сквозь узкие сплюснутые окна внутрь проникал слабый рассеянный свет. Изредка то тут, то там зажигались новые люстры: свечное освещение менялось на электрическое. Сергей без устали разглядывал промытую копошащимися на подмостях людьми в синих комбинезонах стеновую живопись, занимавшую несколько ярусов. Своды олицетворяли небо с ангелами, патриархами, пророками, апостолами (Сергей вполне разбирался, кто есть кто), а на четырех круглых центральных столбах отчетливо различались фигуры воинов и мучеников. Их спокойные, задумчивые лица пронизывали Сергея насквозь, угнетали его, делали еще меньше, еще незаметнее в сравнении с ними, а губы святых, казалось, вышептывали ему: ты песчинка мироздания, поглощенная жалкой мирской суетой. И все равно Сергей урывал свободную минуту и погружался взглядом в эти лики, скорбные и умиротворенные.
Он неоднократно нес дежурство внутри здания правительства, главным фасадом обращенного к Арсеналу. За высокими дубовыми дверьми входа открывался вестибюль, стоял столик с телефоном, возле которого располагались дежурный офицер и он, Сергей, его помощник. Полукружия гранитной лестницы вели мимо старинных мраморных статуй в нишах стен. Наверх можно было подняться с помощью лифтов с крупными алыми звездами на стекле кабин. В светлых коридорах, устланных ковровыми дорожками, всегда было тихо и безлюдно, тишина эта угнетала Сергея, но не так, как лицезрение живописи храма.
Проходя коридорами, Сергей краем глаза читал таблички, привинченные к дверям, повторяя имена людей, работающих в этих кабинетах на благо народа и страны. В такие мгновения ему верилось, что и он краешком причастен к важным государственным делам, и он уже не казался себе жалкой песчинкой.
В коридоре третьего этажа он иногда останавливался у двустворчатой двери. Табличка указывала, что раньше здесь был кабинет Ленина. Дверь была наглухо закрыта, складывалось впечатление, будто ее очень долго не открывали, разве что проветрить помещение. Но Сергею мерещились шаги изнутри.
Понравился ему зал Свердлова, где, как он знал, проводились пленумы ЦК. По кольцу гладкой белой стены, огибающей зал, шли крупные колонны. Перед рядами кресел в белых чехлах, справа от входа, имелось возвышение в несколько ступеней – для президиума. Там же стояла трибуна из светлого дерева, похоже, карельской березы, и длинный стол, а в нише за трибуной – бюст Ленина. Присмотревшись к убранству зала, Сергей выделил карниз между капителями колоннады с богатым лепным орнаментом. Выше карниза располагались сводчатые окна, дающие много света.
Зал сверкал намеренной сквозной белизной, словно олицетворявшей и подчеркивавшей чистоту помыслов собиравшихся здесь. И вообще все увиденное Лучковским в Кремле: храмы Соборной площади, Большой Кремлевский дворец с роскошным убранством Георгиевского и Владимирского залов и Грановитой палатой, столп колокольни Ивана Великого из трех уменьшающихся кверху восьмигранников, золотящиеся главы куполов, вечнозеленые хвойные аллеи, белые плиты мостовой, газоны и скверы с дорожками, посыпанными светлым желтым отборным песком, и многое другое создавали впечатление высоты и величия, доставшихся Советскому государству в наследство и затем многократно умноженных самой мудрой и гуманной властью на земле.
Обязанности Сергея были несложными: он нес дежурства, проверял документы, но уставал поначалу зверски – в Кремле не знали отдыха ни днем ни ночью. Он постоянно ощущал напряжение, рожденное боязнью что-то выполнить плохо, хуже того, прошляпить, а делать обязан был только как надлежало, требовалось здесь, — иначе не мыслил своего пребывания на этом ответственном, далеко не каждому доверяемом посту.
Дома теперь бывал Сергей не часто, зато с радостью приносил матери паек и деньги. Он приучился спать вечерами и бодрствовать ночами, крепкий организм его вроде бы справлялся с физиологической перестройкой, только мать с тревогой вглядывалась в его осунувшееся лицо и тихо качала головой. Соседям она ничего не говорила, объясняла отсутствие сына ни к чему не обязывающей фразой: “Работа у него такая”.
Служба Сергея шла строго размеренно. Исполнительность, точность и аккуратность его, кажется, замечались начальством. За полгода, правда, случились две неожиданности, если не сказать неприятности.
Направляясь однажды от ворот Спасской башни к Дому правительства — всего-то несколько десятков шагов, – Сергей задумался и не заметил троих людей, двигавшихся навстречу. Если бы вовремя заметил, быстренько отошел бы в сторонку, замер по стойке «смирно» и отдал честь проходящим, как предписывала инструкция. Прозевавший их появление, порядком подрастерявшийся Сергей дернулся и не нашел ничего лучше, как остаться там, где стоял, приложив ладонь к козырьку. Расстояние неумолимо сокращалось, один из троих, идущий сбоку, неминуемо должен был задеть Сергея или задержать шаг и уклониться в другую сторону. Еще не поздно было самому сделать спасительный шаг, но Сергей замер соляным столпом и не мигая уставился на подходивших к нему.
И тут один из них машинально бросил взгляд вбок, на единственный в Кремле сиротливый фонтан, из которого с наступлением осени выкачали воду, и свернул туда. Спутники последовали за ним. Не успев перевести дух, Сергей услышал произнесенное с кавказским акцентом:
– Безобразие! Почему не убраны листья из фонтана?
Человек обернулся и прострелил Сергея рассерженным взглядом. Их разделяло метров десять, но Сергей отчетливо видел рысьи глаза, вбирающие его без остатка. Ему стало зябко. А человек продолжал смотреть на Сергея. Одет он был во френч защитного цвета и галифе, заправленные в сапоги. Кончалось бабье лето, поэтому он и сопровождавшие его были без верхней одежды.
– Подойдите ближе! – послышалось приказание.
Сергей с трудом оторвал подошвы от асфальта.
– Что это такое? – человек сделал жест рукой.
Сергей увидел дно фонтана, сплошь устланное красивыми узорчатыми листьями, занесенными в чашу шалым ветром.
– Безобразие! – ударило в ушные перепонки. – Передайте вашему начальству: фонтан должен быть чистым.
Человек резко повернулся и увлек за собой спутника в маленьких очочках в тонкой оправе, усиливавших холодное мерцание надменных недоверчивых глаз. Третий же поотстал, выждал паузу, неожиданно подошел к Сергею, похлопал по плечу: «Ну, ничего, ничего» – и поспешил за удалявшейся парой.
Только к концу дежурства Сергей пришел в себя и смог разобраться в своих ощущениях. Он снова отчетливо видел перед собой человека во френче, однако теперь смог осмыслить в мельчайших подробностях все, что случилось несколькими часами раньше. Цепкая память словно автоматически засняла на пленку происходившее у фонтана, но только теперь появилась возможность проявить и отпечатать снимки. Сергей не ожидал, что Сталин такого маленького роста — на фотографиях и картинах он выглядел монументальным. Лицо его в мелких оспинах показалось старым и безмерно усталым. На недавнем политзанятии в комендатуре говорилось: мир на пороге огромного события – в декабре вождю исполняется семьдесят лет. Что-то мешало Сергею сердцем воспринять это сообщение, говорившее о неумолимости бега времени, властвующего даже над величайшим гением человечества. Сталин оставался для него молодым, мудрым, всезнающим и всевидящим (даже неубранные листья в фонтане заметил), и потому Сергей попытался побыстрее избавиться от ощущения маленького роста и неприятных щербинок на лице.
Неожиданно для самого себя, то ли не в состоянии отключиться, то ли, напротив, возвращая себя к происшедшему, он непроизвольно вполголоса слово в слово повторил сказанное вождем у фонтана и ужаснулся точности воспроизведения интонации и акцента. Он свободно в л а д е л голосом Сталина, – во всяком случае, так ему показалось. Затаив в себе нечаянно открытое, будто не веря ему, он через несколько дней улучил момент и, оставшись один, повторил ту же фразу. Эффект вышел не меньший. Выходит, у меня артистические способности, как у Райкина, сделал вывод Сергей, не зная, радоваться или печалиться этому обстоятельству.
Во всяком случае, он дал себе зарок не тренировать и не оттачивать открытый в себе дар. А еще лучше вообще о нем забыть.
А вот забыть другое он никак не мог. В течение считанных секунд разговора один из спутников Сталина смотрел на Сергея отчужденно, словно в чем-то п о д о з р е в а л. Имя его наводило страх на многих старожилов кремлевской комендатуры. Сергей не успел проникнуться этим страхом, тем не менее смог почувствовать изначальное его воздействие.
Что же касалось еще одного свидетеля напавшего на Сергея столбняка – наиболее кавказского по виду из всех троих, – то о нем промеж себя в комендатуре говорили так: Анастас Иванович никогда зазря не обидит. И вот – подтвердилось. Сергей по сию минуту чувствовал легкое прикосновение к его плечу: «Ну, ничего, ничего…»
С обладателем тонких очочков Сергею довелось еще раз столкнуться в разгар зимы. В феврале потеплело, завьюжило, следом ударили морозы, брусчатка и асфальт покрылись ледяной коростой. Служившие в Кремле солдаты набивали кровавые мозоли, счищая железными лопатами спрессованный снег, разбивая ломиками наподобие рыбацкой пешни корку на тротуарах. И все же не убереглись от напасти – выходивший к машине человек в очочках поскользнулся и с в е р з и л с я.
Падал он у подъезда правительственного здания, где в тот момент дежурил Сергей с напарником, и потому обратил весь свой гнев на них. Сергей не заметил, как произошло падение, только услышал тяжелый удар и хэканье, похожее на то, с каким мясники разрубают тушу. Человек лежал навзничь, высокая каракулевая шапка отлетела метра на полтора, рядом валялись соскочившие калоша и очочки, чудом не разбившиеся. Сергей, его напарник и стоявший у машины охранник бросились поднимать упавшего, тот, кряхтя и охая, с трудом принял горизонтальное положение, дрожащими пальцами нацепил замутневшие стекла и только тут обрел дар речи.
– …вашу мать! – тонко и пронзительно исторг он. – Лень песком посыпать. Языками будете у меня лизать.
Скандал получился изрядный, всю неделю комендатура занималась очисткой территории от снега и льда, метр за метром, квадрат за квадратом. И впрямь чуть ли не языками вылизывали.
Через год служба Лучковского в комендатуре Кремля окончилась. Его вызвали в Главное управление кадров МГБ. После соответствующего оформления он оказался в штате Главного управления охраны.
Оперативная работа его требовала превосходного зрения, слуха, понятливости и быстроты выполнения различных поручений. Все видеть, все слышать, за всем следить и в случае необходимости действовать сообразно обстановке с применением оружия – такой определенной науке учился Сергей.
Он находился неподалеку от членов правительства во время их перемещения по Москве, сидел в первых рядах во время торжественных собраний и концертов, на которых присутствовали те, кого он призван был охранять, выполнял и еще одну миссию, имевшую специфическое название «санация аудитории».
Миссия выглядела нехлопотной, но достаточно деликатной. Кремлевские приемы, поражавшие великолепием закусок и напитков, для некоторых оказывались чересчур обременительными. Иные перебарщивали по части выпитого уже к середине приема, а к концу и подавно. Не дай бог, если именитый артист, писатель или директор оборонного завода начнет слишком громко разговаривать, или хмельно запоет, или растянется на паркете… Ответственность за их поведение полностью несла охрана.
Сергею вменялось в обязанность находиться невдалеке от ломившихся яствами столов и в оба глаза смотреть за тем, как вели себя гости. Многих из них он теперь знал в лицо. А еще зорче следил за своим непосредственным начальником. Стоило тому приблизиться и обронить словно невзначай определенную фамилию, как Сергей немедля подходил к изрядно нагрузившемуся гостю, незаметно брал за локоть или полуобнимал за талию и уводил из-за стола, нежно шепча в ухо: “Иван Иванович, вам хватит, вам пора домой…” Если гость с первого раза не понимал и начинал недовольно бурчать, Сергей вынужден был приложить некоторые усилия. Внизу у подъезда ждала машина, шофер получал адрес и доставлял по нему пассажира, иной раз лыка не вязавшего.
Он все больше втягивался в круг повседневных обязанностей и забот, находя в них определенный смысл и значение. Не лукавя с собой, Сергей с некоторым удивлением замечал: служба не только не тяготит его, но, пожалуй, доставляет удовольствие. А ведь поначалу его одолевали сомнения… Он чувствовал себя теперь намного взрослее сверстников, ибо ему доверялось то, о чем они, желторотики, и понятия не имели, и Сергей смотрел на них с чувством законного превосходства. Присущее его возрасту стремление к необыденной, нетусклой жизни не обошло стороной и его, и он внутри себя считал, что в известной мере приобрел такую жизнь.
Лишь изредка ловил себя на том, что, проезжая или проходя мимо Манежа, он помимо воли всматривается в отдаленное от тротуара решеткой замкнутое пространство старинного дома напротив, куда сбегаются и откуда стайками высыпают такие же, как он, молодые люди с папками и портфелями. Желтое университетское здание на Моховой с выступающими по бокам крыльями и восьмиколонным портиком в центре теперь было отделено от него не только решеткой, но и Кремлевской стеной, и вид его отзывался внутри Сергея щемящим чувством потери. Словно бы, еще не встретившись, Сергей мысленно попрощался с ним навсегда. Или так только казалось…
Служебное усердие Лучковского было замечено. Его неоднократно хвалили на оперативных совещаниях. Сергея вдруг перевели туда, куда попадали лишь самые избранные, лучшие из лучших, надежнейшие из надежнейших, – в охрану вождя. Узнав о готовящемся переводе, Сергей испытал головокружение, как от немыслимой, заоблачной высоты.
Вскоре после нового назначения, пятого мая пятьдесят первого, Сергею приказали спешно съездить домой и забрать вещи с расчетом на длительное пребывание вне Москвы, после чего велено было прибыть на правительственную вагонную базу. Располагалась база на Каланчевке. Вечером того же дня три состава отбыли из столицы в южном направлении.
Всю дорогу он проделал в первом поезде, в котором ехал вождь. Сергей постоянно находился на площадке между соседними вагонами, сменяясь через каждые шесть часов. В кармане у него был пистолет, а за поясом нож, открывающийся нажатием потайной кнопки. Дежурили они по двое, напарники у Сергея оказывались разные, отчего-то хмурые и неразговорчивые. Наверное, потому, что им он покуда был неизвестен – в их ведомстве служила уйма народа, большинство знало друг друга только в лицо. Так рассуждал Сергей, механически фиксируя из окна пролетающие поля, перелески, станции и полустанки.
Поездам дали зеленую улицу – следовали они без малейшей задержки. Впереди но тысячекратно проверенным и обследованным рельсам тем не менее шла дрезина. Сергей видел ее во время коротких остановок. Проходя по насыпи вдоль состава из одиннадцати вагонов, он нет-нет и вглядывался в стекла, хотя проявление излишнего любопытства отнюдь не относилось к качествам, поощряемым начальством, и Сергей это хорошо знал. В полураскрытых окнах третьего, пятого и девятого вагонов он отчетливо видел силуэты вождя. Но этого не могло быть – вождь один, следовательно, Сергею померещилось.
Дотошный по натуре, он никак не мог смириться с обманом зрения и на следующей десятиминутной остановке снова пробежал вдоль поезда, вглядываясь в вагоны. И снова увидел то же самое. Наваждение какое-то.
Лишь к концу пути сообразил: оптический обман здесь ни при чем. В поезде по соображениям безопасности ехали три Сталина – один настоящий и два загримированных под него.
В Сочи поезда прибыли рано утром седьмого мая. Сеялся маленький дождик, было тепло, от асфальта шли испарения. Сергей увидел выходившего из пятого вагона вождя, одетого в с т а л ь н о г о цвета макинтош. Он проследовал в конец пустого перрона, сел в черный «ЗИС» и отбыл с вокзала.
Прежде чем начался объезд дач, включая уединенную дачу на Рице, где Сергею привелось испытать, быть может, самый большой свой страх, были пять недель в Мацесте.
Р а б о т а л Сергей в Мацесте ежедневно полтора часа, с половины одиннадцатого до полудня. Каждое утро он приходил в санаторий, расположенный на горе и как бы нависавший над площадью, отпирал своим ключом пахнущую лекарствами комнату на втором этаже, растворял окно, клал на подоконник автомат ППШ и в бинокль начинал вести наблюдение.
О наблюдательном пункте этом знали только он и директор санатория — тучный, одышливый грузин, помогавший выбрать место, откуда открывался бы наилучший обзор. Более всего подошла для этого комната медсестры, откуда директор мигом ее выселил. Акакий Шалвович, так звали директора, проявлял о Сергее поистине отеческую заботу, старался предупредить любое его желание, чем повергал в смущение. Чтобы перебить запах лекарств, приносил только что срезанные розы и устанавливал в вазе возле окна. Он угощал Сергея домашним сыром, орехами и сладостями, а однажды принес кувшин с вином. Сергей отказался пить. “Понимаю, понимаю”, –сконфуженно улыбался Акакий Шалвович.
Чем уж так приглянулся он директору… Потом осенило: директор распространяет на него часть своей беспредельной любви к Сталину… и так как лично выразить ее вождю не имеет возможности, избрал его, охранника вождя, в качестве объекта поклонения. Что ж, очень может статься.
Из окна открывался вид на площадь и дорогу слева, по которой сейчас никто не ездил и не ходил. Полевой бинокль давал крупное увеличение. Сергей видел в окуляры знакомые лица охранников, фланирующих по площади и ничем не отличающихся от отдыхающих. Если бы перед приездом Хозяина и особенно в момент появления его машины Сергей заметил бы нечто подозрительное, он имел право открыть огонь из автомата.
В начале одиннадцатого площадь начинала пустеть. Зато увеличивалась активность охранников, сновавших то тут, то там, расчищая место от праздношатающихся. Сергей отчетливо видел это в бинокль. Затем подъезжала машина личной охраны, кто-то из начальства осматривал посты. Через пять минут на пустую площадь въезжал бронированный «ЗИС-110». С переднего сиденья выскакивал личный телохранитель и открывал дверцу Сталину, всегда сидевшему сзади.
Телохранителем вождя, или, на языке охраны, первым прикрепленным, был полковник-грузин – среднего роста, плотный, упругий, точно до отказа накачанный мяч, с орлиным, или, как говорил про себя Сергей, горбатым, перешибленным носом. Он ни мгновения не стоял спокойно, постоянно пританцовывал, г а р ц е в а л, являя странный контраст с медлительным, плавным в движениях Сталиным.
Отец полковника заведовал рестораном “Арагви”, где обедала и ужинала московская элита. Сергею ни разу не доводилось посетить это знаменитое заведение, он только слышал, что кухня там отменная. Впрочем, отец человека, которому доверено находиться рядом с вождем, просто не мог допустить, чтобы в грузинском ресторане кормили так себе, считал Сергей.
Гарцуя, как горячий, застоявшийся конь, полковник провожал своего внушительно пересекающего площадь спутника в сапогах, галифе и френче, а в дождь в неизменном, стального цвета макинтоше и фуражке. В одном из санаториев Сталин принимал лечение. Здесь у него была своя персональная ванна из мрамора. Так повторялось изо дня в день на протяжении пяти недель.
За все это время Сергей не заметил из своего потайного укрытия ничего подозрительного. Только однажды глаз вырвал из зарослей туи, обрамлявших дорогу слева от площади, женщину в черном и девочку лет шести. Наклоняясь, женщина срезала серпом траву и набивала ее в мешок, девочка плелась сзади. Сергей посмотрел на часы – пятнадцать минут одиннадцатого. Как женщина смогла проникнуть на перекрытую дорогу? Чей-то недосмотр или… Руки сами потянулись к автомату, и тут же Сергей вздрогнул и отпрянул от окна. Это же местная жительница, косит траву для козы или коровы. Подозревать ее? Попытался успокоиться и не смог. Что у нее в мешке, трава?
Женщина продолжала орудовать серпом и неумолимо приближалась к площади. Вот-вот приедет проверяющий посты, столкнется с ней, и тогда не миновать грозы. Дежурящим на площади всыплют по первое число. Как бы их предупредить? – лихорадочно соображал Сергей и не находил другой возможности, как дать автоматную очередь.
На его счастье, женщину заметили. Двое бегом устремились к дороге и через две-три минуты выросли перед женщиной. Один вырвал у нее из рук мешок и махом вывалил содержимое. Потом они повели женщину и девочку в кустарник и скрылись в нем.
На исходе пятой мацестинской недели начальник охраны генерал Носик объявил о переезде на Рицу. Добирались туда в двух крытых грузовиках и на «виллисах». Дорога запомнилась Сергею змеистыми поворотами, особенно на последних километрах, невиданной красотой горных речек, лесистых отрогов и кое-где обнаженных скал. Ему, ранее не бывавшему на Кавказе, все казалось диковинным, а само озеро – и того больше.
Сергею поручили пост у ворот и на стоянке служебных катеров; заходить на дачу без особой надобности не разрешалось. А ему нестерпимо хотелось узнать, что там, и он отчаянно завидовал тем, кто по распоряжению Носика нес дежурство внутри.
Сталин изредка появлялся на территории. В жару он снимал полувоенное, надевал полуботинки и белую навыпуск рубашку с отложным воротником. Вблизи Сергей доселе так ни разу и не видел его, исключая мимолетную встречу в Кремле. А он страстно желал такой встречи, мечтал получить от Сталина приказ исполнить что-либо, это «что-либо» могло касаться чего угодно, и чем сложнее было, тем рьянее и усерднее бросился бы Сергей выполнять волю вождя.
И случай представился.
Рано утром, не было еще семи, поеживаясь и позевывая, к воротам вышел Носик. Широкоскулое крестьянское лицо генерала обычно выражало в равной мере простодушие и хитрость поочередно, в зависимости от ситуации, выставляя то одно, то другое, а иногда и все вместе, и трудно было проложить межу. По документам Носика звали Николаем Сидоровичем, величали его Николаем Сергеевичем – так ему больше нравилось. С Хозяином он, говорили, познакомился еще в Царицыне и с тех пор существовал при нем отраженной тенью. Хозяин не раз изругивал Носика на чем свет стоит, изгонял его, но потом вновь возвращал, будучи не в состоянии привыкнуть к другому начальнику личной охраны, вернее сказать, доверить свою жизнь кому-то другому. А Носик знал Хозяина как никто.
Генерал зевнул, широко развел руки и сладко, с хрустом потянулся.
– Ну что, хлопцы, зажурились? Спать небось охота? Сам на часах стоял, знаю… А, черт, папиросы забыл.
Сразу же услужливо протянулась пачка “Казбека”.
– Нет, хлопцы, мы с товарищем Сталиным один сорт курим – «Герцеговина флор». Сгоняй-ка ко мне, принеси папиросы, на тумбочке у кровати лежат, – остановил он свой выбор на Сергее и для убедительности ткнул ему в грудь палец.
Гордый доверием, Сергей полутрусцой направился к даче, миновал скамейки с росшими рядышком тоненькими березками и, обойдя дом, приблизился к входу во флигель, где жил Носик. И тут его окликнули.
Метрах в двух от него стоял Хозяин. Сощурившись, он изучающе смотрел на Сергея, словно оценивая смысл его появления здесь в неурочный час. Маленький, с рябинками на усталом бледном, без следа загара лице, паутинкой морщинок у глаз и серыми, словно присыпанными пеплом, усами, он смотрел на Сергея снизу вверх, и Сергей вдруг устыдился своего большого ладного мускулистого тела. Он тогда не знал, что Хозяин всегда прищуривался, когда смотрел на кого-либо, словно брал на мушку, но сейчас ему стало не по себе, и чем дольше он ощущал этот взгляд, тем сильнее что-то внутри сковывало его.
Хозяин раздельно произнес несколько слов и замолчал. Сергей коротко кивнул в знак того, что принял к исполнению приказание, отдал честь и бегом бросился назад.
В нескольких метрах от ворот он замедлил бег, перешел на шаг и только тут ощутил, что не воспринял ни единого слова, произнесенного Хозяином, а уж тем более их смысла. Слова эти прошли сквозь него, как вода сквозь дуршлаг, не оставив ни одной капли. Сергея обуял ужас. С трудом переставляя вмиг одеревеневшие ноги, он приплелся к Носику и тупо уставился на него.
– Принес? – спросил тот. – Давай, чего стоишь?
Сергей молчал, пытаясь выдавить из себя какие-то звуки.
– Мычишь как телок. Где папиросы?
– То… Това… Товарищ генерал, – с трудом разлепил губы Сергей. – Меня… Мне приказал товарищ Сталин, а что, не могу… не могу вспомнить…
– Как не можешь? – удивился Носик.
Сергей опустил голову.
– Малахольный ты, что ли? – произнес Носик и дернул плечами. – О чем хоть он говорил с тобой?
Сергея била противная мелкая дрожь.
– Ну, хлопец, с тобой не соскучишься. Ты чем, болван, слушал, ухом или брюхом, когда к тебе вождь обратился?! – генерал начинал терять терпение и перешел на фальцет. Внезапно смолк, поджал губы, наморщил лоб и задумчиво стал глядеть куда-то поверх Сергея. – Так, ладно, пойдешь на кухню, попросишь стакан холодного кефира и дашь товарищу Сталину на подносе. Уразумел? Выполняй! – выкрикнул генерал.
Остальное прошло перед Сергеем как в тумане. И то, как повар наливал кефир, и то, как Сергей нес его, боясь расплескать, и то, как подал поднос Хозяину. Вот только взгляд Хозяина всю жизнь потом не мог забыть, взгляд, менявший оттенки: недоуменный, ошеломленный, разгневанный и вконец растерянный. О чем думал семидесятилетний всесильный человек, не допускавший и мысли, что его распоряжение можно не выполнить или выполнить не так, вовсе тем ранним утром не хотевший кефира и вынужденный отпить из стакана?
Спустя годы, придирчиво и беспощадно оценивая и переосмысливая тогдашнюю свою жизнь, Лучковский пришел к выводу: вполне возможно, что в тот миг к Сталину прихлынули горькие, безотрадные мысли о наступившей старости, глубоком склерозе, отшибающем некогда безотказную память, и тому подобных неизбежных вещах, которые, как еще недавно казалось, должны его миновать и вот нежданно-негаданно проявились неумолимыми законами природы, не жалующими и не щадящими ни простых смертных, ни вождей. Потому-то и глядел он растерянно и жалко, не ведая, какой всепоглощающий страх сковал и оледенил державшего поднос.
…Придя на завтрак в половине десятого, Лучковский, к немалому удивлению, обнаружил за своим столом долгоносика. Он занял место сдобной блондинки с кольцом в полпальца. В столовой произошли изменения, некоторые, видимо, уехали, других пересадили на освободившиеся места.
Долгоносик сосредоточенно поглощал овсяную кашу, уткнувшись в тарелку, и, едва подняв глаза, кивнул на приветствие Сергея Степановича. Они завтракали вдвоем. Сергей Степанович колупнул вареное яйцо, разрезал булочку, намазал половинку маслом, все это проделав механически, думая совсем не о еде. В присутствии долгоносика он чувствовал определенное неуютство. Возможно, что-то передалось соседу, тот изучающе посмотрел на него, после чего молчать стало невозможно.
– Как погода, не слышали прогноз? – произнес Лучковский первое пришедшее на ум.
Долгоносик слегка покачал головой.
– Впрочем, московские прогнозы редко оправдываются, – продолжал Сергей Степанович. – Лучше верить местным приметам. Я заметил: закат багровый – быть назавтра солнцу.
– Есть поверье: чайки бродят по песку – моряку сулят тоску, чайки лезут в воду – моряку сулят погоду, – поддержал разговор долгоносик. У него оказался низкий, с хрипотцей голос: похоже, заядлый курильщик.
– Здешние чайки вкусили плоды долгого пребывания вблизи людей, – развил Сергей Степанович затронутую тему. – Жадные, алчные какие-то, ищут на берегу объедки, роль барометров им явно обременительна.
– Испортилась птица, – показалось, с легкой подковыркой произнес долгоносик.
Приглядевшись к нему, Сергей Степанович нашел не вполне точным свое первое наблюдение: лицо долгоносика не всегда выглядело скорбно-надменным, сейчас оно было скорее безразличным.
– Давайте познакомимся, – Лучковский назвал себя.
В ответ услышал:
– Шахов, Георгий Петрович.
Допив чай с лимоном, долгоносик поднялся и вышел из-за стола, пожелав приятного аппетита.
Встретились они на пляже. Идя босиком вдоль уреза воды и с удовольствием погружая ступни в шелковистую слабеющую волну, которая, кипя и пузырясь, набегала на прибрежную гальку, Лучковский заметил Шахова. Он лежал на разостланном махровом полотенце, заложив руки за голову. Сергей Степанович двинулся было к нему и тут же укоротил шаг. Он не хотел казаться навязчивым, набиваться в знакомые и одновременно испытывал в этом жгучую потребность. В нерешительности прошел метров десять и остановился. Шахов находился от него совсем близко. Пройти мимо: заметит, не заметит? Или устроиться неподалеку и как бы невзначай, ненароком… Он медлил, не зная, к какому прийти решению. Чего это я церемонии затеял, начал корить себя, пляж общий, каждый занимает место, где хочет, и, пытаясь побороть скованность, двинулся к Шахову.
– Позволите рядом с вами? – спросил он и учтиво склонил голову.
– Ради бога. – Шахов убрал с гальки книгу, сигареты и освободил место. Вид его показывал, что он вроде не против, но и не особенно за.
Сергей Степанович принес лежак и накрыл его халатом, который надевал после купания.
– Хотите закурить? – Георгий Петрович протянул пачку “Явы”.
– Уж лет двадцать как бросил. А вы смолите вовсю?
– Да, знаете, грешен. Врачи говорят: не надо резко бросать. В организме образовалось некое равновесие, баланс, стоит ли нарушать.
Сергею Степановичу бросилась в глаза полураскрытая книга в знакомом желтом переплете. В ней в виде закладки лежало что-то плоское, похожее на спички или зажигалку. Очевидно, Шахов прервал чтение перед самым его появлением. Сергей Степанович мог узнать обложку из сотни других – это была его настольная книга. Прочитал он ее впервые на третьем курсе института: не именно это издание, а довоенное, из объявленного собрания сочинений. Вышел тогда первый том, он же оказался последним. С тех пор перечитывал ежегодно, открывая для себя всякий раз новое. Книга в желтом переплете, в известной степени дублировавшая довоенную, вышла недавно, он тщетно гонялся за ней по Москве и наконец выменял у одного знакомого на случайно попавшую к нему “Альтернативу” Юлиана Семенова. То, что именно эту книгу читал Шахов, сразу заинтересовало Лучковского.
– Макиавелли? – не столько спросил, сколько подтвердил Сергей Степанович и, устроившись на лежаке, повернулся к соседу.
– Откопал в здешней библиотеке, – пояснил Шахов. – Когда-то читал, теперь словно сызнова. Глубина рассуждений необыкновенная, будто о нашем времени написано.
– Особенно в “Государе”, – с живостью отозвался Лучковский, – помните: “Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность…”
– Однако память у вас, – удивился Шахов.
– “Государя” могу цитировать бесконечно, – не удержавшись, с некоторой гордостью сообщил Лучковский. – Никто, по-моему, лучше не написал о власти.
– О неограниченной, деспотической власти, – добавил Шахов и вытащил из пачки сигарету.
– Макиавелли считает: власть всякого государя деспотична. С известными допусками, разумеется. Надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой.
– Это вы или автор? – и Шахов указал на книгу.
– Автор, – слегка улыбнулся Сергей Степанович.
– Видите, я уже в плену сомнений, не перепутать бы. А ведь написано в тысяча четыреста…
– В тысяча пятьсот тринадцатом, – уточнил Лучковский.
– И звучит абсолютно современно, – продолжил мысль Георгий Петрович. – Говорят, любимое произведение Иосифа Виссарионовича. Много бы я дал, чтобы его пометки на полях увидеть.
Он приблизил к глазам книгу, полистал, нашел нужную страницу, откатил сигарету в уголок рта и прочел:
– ЭГосударь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку”. Уж эти слова товарищ Сталин наверняка красным карандашиком своим обвел, – произнес Шахов. – Милосердный был вождь, если судить по числу расправ.
Прозвучало недвусмысленно и определенно, и в унисон словам, а главное, интонации Шахова Сергей Степанович вновь подумал: очень уж похож долгоносик на того человека в пыльнике и примятой шляпе, которого много лет назад он извлек из толпы у Красной площади.
– Или вот место, – увлекшись, продолжал Шахов. – “…По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх”. В корень зрил.
А Сергея Степановича обеспокоило внезапное предположение: случайно ли помянул Сталина сосед или с умыслом, имеющим прямое отношение к нему, Лучковскому? Книга в желтом переплете, конечно, могла споспешествовать, и все же не таит ли в себе затеявшийся разговор некоей нарочитости, прозрачного намека… Намека? На кого? Долгоносик не знает меня, мы никогда ранее не встречались. Пуганая ворона куста боится, выразил недовольство собой Сергей Степанович.
Шахов отложил книгу, сел, обвел взглядом пляж, оживленный в полуденный час, и предложил:
– Не хотите искупаться?
Он шел к воде, осторожно ступая мосластыми ногами, с опаской касаясь голыми ступнями колющейся гальки, и казалось, будто идет по битому стеклу. Забрался в воду по пояс, поплескал на грудь и плечи, поозирался, словно набираясь решимости, и, резко оттолкнувшись, поплыл саженками. Сергей Степанович двинулся следом.
Догнал он его у буя. Шахов отдыхал на воде, широко раскинув руки и уставив лицо в безоблачное небо.
– Есть ли большее блаженство, чем вот так лежать и длить минуты, зная, что в Москве наверняка мокрядь, – произнес он при появлении Сергея Степановича, шумно отфыркивающегося и немного уставшего. – Вы кто по профессии? – совершил неожиданный переход. – Историк? Никогда бы не подумал.
– Кем же вы меня представляли?
– Скорее военным, знакомым с дисциплиной, точностью и четкостью приказов.
Сергей Степанович хмыкнул и ничего не сказал. “Неужто во мне еще сидит тот, прежний Лучковский?” – подумал он. Острый, однако, глаз у Шахова.
Они поплыли обратно, подгоняемые приливной волной.
Шахов скептически наблюдал, как Лучковский пытается устоять на левой ноге, держа другую на весу, очищая ее от налипшей гальки и пытаясь вдеть в тапочки-вьетнамки. Протянул руку, Сергей Степанович оперся о нее.
– Между прочим, ходить босиком по камням неприятно, но полезно, – изрек он. – Гарантия от шпор, отложения солей.
– У меня их и так нет, – отпарировал Лучковский.
– Пока нет, – Шахов сделал упор на первом слове. – В нашем возрасте надо быть ко всему готовым.
Сергею Степановичу померещилось обидное: “в нашем”. Не так уж он старо выглядит, чтобы безоговорочно принять скрытый подкол.
– Вот вы утверждаете, что знаете Макиавелли, – продолжал с прежними интонациями Шахов. – Какая, по-вашему, самая глубокая его мысль, между прочим, имеющая прямое отношение к истории? Молчите? Тогда слушайте: чтобы знать, что должно случиться, достаточно проследить, что уже произошло.
Сергей Степанович хотел было уличить Шахова в неточном цитировании, убить его продолжением фразы, которую помнил, однако раздумал и подавил в себе легкую обиду на тон фразы Шахова.
По воскресеньям от дома творчества отходил автобус, доставлявший желающих на рынок и обратно. Сергей Степанович и Шахов договорились ехать вместе. Минут через пятнадцать автобус остановился на небольшой стоянке рядом с рынком. Едва они сошли, как тут же подверглись атаке небритых личностей, наперебой предлагавших мандарины. Георгий Петрович объяснил, в чем дело. Торговать мандаринами, тем более ранними, на рынке запрещалось, урожай следовало сдавать государству по твердой цене, но госцена – восемьдесят копеек за килограмм – бледнела в соотнесении с базарной – два рубля, поэтому-то автобус и брали на абордаж. На глазах у зорко глядевших куда-то вдаль блюстителей порядка открывались багажники “Жигулей” и “Волг”, взвешивались безменами полиэтиленовые пакеты с подпольным товаром и перекладывались в сумки отдыхающих.
Лучковского и Шахова мандарины не интересовали, и они сразу проследовали на рынок.
Шахов знал рынок как свои пять пальцев. С некоторыми продавцами он раскланивался и у двоих из них купил аджику и ткемали, не обращая внимания на зазывы соседних теток, наперебой предлагавших баночки из-под майонеза и полулитровые бутылки, наполненные ядовито-красным и светло-желтым содержимым, без чего не существует кавказская кухня.
– Химичат здесь, как и везде, – пояснил Шахов, слизывая с ладони каплю ткемалевого соуса, даваемого на пробу продавцами. Без такой пробы он не брал даже у знакомых.
Покупая помидоры, гурийскую капусту, виноград и груши, он торговался умело и напористо, подавая пример Сергею Степановичу, вовсе не обладавшему подобными навыками. Чувствуя, что мужчина с носом-клювом не промах, базарные завсегдатаи охотно вступали с ним в дискуссию по поводу цен, стремясь показать, что по этой части десять очков вперед дадут любому московскому говоруну. На Шахове они, как правило, осекались; употребляемые ими междометия, жестикуляция и выкрики, словом, вся эта южная ажитация, срабатывавшая между своими, абсолютно не действовала на невозмутимого Шахова. Железной логикой он разбивал доводы сопротивляющихся частников: показывая на две-три подгнившие, сморщенные виноградины, доказывал невысокое качество всего лежащего на весах, гурийская капуста, по его мнению, получилась не т о й остроты, а груши были помяты с боков, в силу чего никак не могли стоить четыре рубля за килограмм.
В тех случаях, когда частник попадался вовсе уж неуступчивый, Шахов с видом до глубины души обиженного покупателя, исчерпавшего все мыслимые аргументы и попросту уставшего доказывать упрямцу его торговую несостоятельность, театрально разводил руками и отходил от прилавка. Редко кто не кричал ему после этого вслед: “Гэнацвалэ, нэ ухады, иды суда, отдам па тваей цэнэ”.
В итоге он и покупавший вместе с ним Лучковский сэкономили каждый не менее червонца.
– Вы просто гигант. Так уметь извлекать пользу из знания людской психологии… – не удержался Сергей Степанович.
– Я не из-за денег, хотя лишних, как вы понимаете, не имею. Просто люблю базар. Я журналист, мотаюсь по командировкам и знакомство с каждым новым местом начинаю с базара. Здесь тебе и нравы, и обычаи, и традиции, и, если хотите, душа города. На базаре я себя чувствую абсолютно свободным и независимым в выборе, – разоткровенничался Шахов, очевидно пребывая в хорошем настроении. – Извечный диктат производителя над потребителем здесь не проходит. Бейся за свои права, доказывай, аргументируй – и добьешься приемлемой цены. В обычном магазине я вынужден брать то, что явно столько не стоит, выше своей реальной цены. Там диктуют мне, а на базаре, наоборот, могу диктовать я, в какой-то степени, конечно. Рыночные отношения, между прочим, не самые плохие…
У выхода Сергей Степанович заметил шахтера с Кузбасса, в первые два дня сидевшего с ним за одним обеденным столом, а потом перебравшегося к своим парням, коих в пансионате было немало. Косая сажень в плечах, с наколотой ниже локтя голубкой, он прилип к прилавку, где под стеклом были разложены какие-то фотографии. Лучковский непроизвольно бросил взгляд и вздрогнул. На снимках был Сталин. Сергей Степанович увидел через плечо Николая (так звали шахтера): снимков было пять, изображали они Сталина вместе с Лениным на скамейке в Горках, отдельно с Яковом и Василием, в обнимку с Орджоникидзе, и, наконец, портрет вождя на фоне музея в Гори. Не будучи специалистом по фото, Сергей Степанович тем не менее усомнился в подлинности большинства снимков: больно смахивали на монтаж.
– Слушай, а это кто? – Николай указал на молодые лица рядом с вождем.
– Это Яков, а это Василий. Сыновья, – пояснил торговавший снимками молодой, не по годам оплывший, маленького роста парень, похожий на обреутка.
– Постой, постой, кацо, это какой же Яков? Не тот ли, что в плен немцам сдался? Те его хотели на фельдмаршала выменять, а Сталин отказался. Не посмотрел на то, что сын. Я в картине про это видел, в этой, как ее, в “Освобождении”. Нет, Яков мне не нужен, ты мне его не подсовывай. Ты, кацо, дай мне эту, эту и эту, по пять каждого вида, – Николай поочередно ткнул пальцем в образцы.
– Что вас там заинтересовало? – шедший сзади Шахов протиснулся к Лучковскому. – Ого, тут целая коллекция…
Поставив сумку с фруктами между ног, он низко склонился и поочередно разглядывал каждую фотографию. Потом поднял голову и странно-затуманенно посмотрел на обреутка.
– Сколько у тебя штук?
– Пять, — не понял парень.
– Я спрашиваю, сколько всего у тебя снимков?
– Сто, наверное.
– И почем берешь?
– По рублю.
– Жаль, денег при себе нет, – вздохнул Шахов. Сергею Степановичу показалось: вздохнул вовсе не наигранно.
–Возьмите сколько хотите, — предложил обреуток.
– Нет, я покупатель оптовый, беру все сразу, – и отодвинулся от прилавка.
– Классные фотографии, а?! – Николай брал Сергея Степановича в союзники, донельзя довольный сделанным приобретением. – Приеду домой, подарю корешам.
У автобусов Лучковский не удержался и тихо, будто секрет выпытывал, спросил Шахова:
– Вы… серьезно хотели купить или шутили?
– Такими вещами, дорогой мой, не шутят, – выпялился на него Георгий Петрович. – Была бы с собой сотня, ей-богу, сгреб бы всю эту… продукцию, – произнес со злым нажимом, – и в канализацию. Чтоб миновала таких, как этот простодушный бугай с наколкой. Я краем уха слышал, как он о Якове… Между прочим, трагической судьбы человек, отец родной его терпеть не мог, не простил, что женился против его воли на еврейке. И погиб как герой, в концлагере, посмертно был награжден орденом Отечественной войны. Пора бы об этом во весь голос, а то народ о Якове только то знает, что не захотел обменять его батька с усами. И ведь многие одобряют: какой человек – через сына переступил, а не пошел немцам на уступку.
Он влез в автобус и вытер пот со лба. Тяжело дыша, как после долгого бега, бросил, невесело усмехнувшись:
– Впрочем, скупать не выход, напечатают новые – фирма веников не вяжет, найдутся и покупатели. Покуда всю правду о сталинизме не расскажем. Лично я нисколько не боюсь, что правда эта во вред пойдет. Иллюзии развеет, это точно. Нельзя любить свое Отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я бы ввел в школе обязательное чтение Чаадаева. Вот уж воистину великий муж России, учиться у него надобно…
Человек очень тяжело расстается со своими предубеждениями. У меня в ЖЭКе висит черно-белый портрет Сталина с надписью: “Меня на вас нет”.
Сталин – миф, мифологический образ. Люди не ассоциируют себя с жертвами ГУЛАГа, они ассоциируют себя с победой в войне с гитлеровцами, с победными парадами, с кумачовыми знаменами… И впрямь, Гитлера уничтожил, заводы построил, атомный проект реализовал… Народ считал: нужна железная рука, чтобы страной править, вот Сталин и воплотил глубинные коды русского человека, неистребимые, пока Россия существует.
– Вы правы, он – из бездонных глубин русского имперского сознания, – вступил в разговор Лучковский. – Народу нашему необходимо было слепое поклонение – неважно, царю ли, вождю ли, вот и сотворил себе кумира. И что бы сейчас не объясняли тому же Коле, как не развенчивали вождя, не захочет он верить, понимать, слова отскакивать от него будут, как от стенки горох. И сколько таких Коль по сей день мечтают о сильной, жестокой, всеподавляющей власти! Такой власти они бы поверили безгранично.
Его так и подмывало рассказать, чем сейчас занимается, какие разоблачительные изыскания ведет как историк. Однако что-то сдерживало. Еще подумает – изображаю из себя борца за историческую справедливость. Я не борец, увы, плыл по течению, как и другие, просто в определенный момент что-то во мне стронулось, заставило посмотреть на себя со стороны и поразиться увиденному. Да разве все объяснишь… Не вышвырнули бы меня из “органов” из-за женитьбы на еврейке, кем бы я теперь был…
– Одна крамольная мыслишка не дает покоя. Сталина и с ним связанное разоблачают, в “Огоньке” и “Московских новостях” удивительные факты огласке предают, кажется. навсегда образ Усатого померкнет, проклинать его станут, но вот увидите, уважаемый Сергей Степанович: лет эдак через тридцать памятники начнут ему ставить.
Лучковский промолчал.
…В то лето и в ту осень они без конца переезжали с дачи на дачу. Рица, Гагра, Мюссера под Гудаутой, снова Рица, Новый Афон… Словно что-то не давало покоя Хозяину, подверженному внезапной ностальгии, гнало с места на место.
Охранники жили не на самих дачах, а вблизи их, кроме непосредственно приставленных к Хозяину. Соседом Сергея по комнате стал его земляк, невысокий карамазый капитан, выглядевший старше своих двадцати шести. В цвета грачиного крыла вьющуюся шевелюру Кима Красноперова – так его звали – преждевременно вплелись серебряные колечки. Он здорово смахивал на цыгана: порывистостью движений, смугловатостью, озорным блеском шалых миндалевидных глаз и какой-то запретной бедовостью, исходившей от всего его облика. Его так и кликали между собой Цыганом – даже генерал Носик иногда заменял кличкой фамилию.
Ким, как видно, легко сходился с людьми. Редкие в обслуге Хозяина женщины – горничные, прачки, помощницы по кухне – заглядывались на него. В отличие от Сергея словоохотливый, он в первую же неделю поведал свою историю.
Будучи старше Сергея, он успел повоевать. В армию попал благодаря своей настойчивости, но в большей степени волей случая. Окончив восемь классов, решил поступать в артиллерийскую школу. Но кто примет его, если по поведению тройка? Отважился было переговорить с начальником, однако перед дверью кабинета каждый раз вырастала вреднющая секретарша. Тогда Ким залез в кабинет через окно, тем самым неожиданно понравившись начальнику, не посмотревшему на злосчастную тройку. Тут началась война, школу собирались эвакуировать в Сибирь. Ким ехать в тыл не захотел. Рядом с домом тянулся забор авиазавода. Верный себе, Ким перемахнул его, нашел отдел кадров и устроился учеником слесаря в сборочный цех. Тогда же с другом и написал письмо Ворошилову с просьбой направить их на фронт.
Ответа долго не было. Ким уже смирился с тем, что товарищ Ворошилов не внял их просьбе, и начал готовиться к побегу в армию. И тут его с другом вызвали в гостиницу «Москва». В одном из номеров парней принял какой-то начальник с красными глазами, очевидно, от хронического недосыпа.
– Писали Клименту Ефремовичу? – устало спросил он. – Сколько вам лет? Шестнадцать? Марш отсюда, и чтоб я вас больше не видел. Вояки… Без вас обойдемся.
Хлюпающих носами от обиды, их увидел проходивший по коридору военный. Узнав, в чем дело, оценивающе посмотрел и вдруг сказал:
– Завтра наша часть отбывает из Москвы. Двигаться будем по Ленинградскому шоссе. Могу взять вас…
Таким вот образом Ким и его друг оказались под Волховом.
Вначале приставили их к мотористам, ведавшим подачей света к помещению штаба фронта. В землянке с накатом стоял переделанный движок от трактора “ХТЗ”, работавший, как динамо-машина. Ребята заливали в него горючее, масло, чинили провода. Несколько раз штаб передислоцировался, переезжали и ребята, теперь уже самостоятельно отвечавшие за свет.
Неизвестно, сколько бы продолжалась такая скучная жизнь, успевшая обрыднуть Киму, жаждавшему подвигов. Выручил случай. Как-то Ким повстречал человека в лейтенантской форме, спросившего дорогу к узловой станции, Ким многих в штабе знал в лицо, этого же лейтенанта видел впервые. Покумекав, он вывел его на охрану штаба. “Лейтенант” оказался диверсантом.
После этого Кима, к великой его радости, взяли в контрразведку. Несколько месяцев обучали владению оружием, в том числе холодным, приемам самбо, показывали образцы всевозможных документов и печатей, которыми может воспользоваться враг. Затем дали первое задание. Одетый в ватник с чужого плеча и кирзовые расхлябанные сапоги, он играл роль цыганенка, шатался возле узловой станции, смешил бойцов эшелонов байками и похабными анекдотами, плясал под гармонь. И смотрел по сторонам, учась различать “своих” и “чужих”.
В первые три дня он “сдал” восемьдесят человек. Майор-смершевец похвалил его и одновременно остудил пыл: “Не так рьяно, Ким”. Все восемьдесят при проверке оказались своими.
Потом началась оперативная работа, задержание настоящих диверсантов и шпионов, переброска в различные районы, постоянный риск, словом, то, без чего Ким уже не мог существовать.
В Главное управление охраны Красноперов попал неожиданно для себя. Перед самым концом войны раненый лежал в госпитале в Москве, познакомился с молоденькой медсестрой, закрутился у них роман, окончившийся свадьбой. Медсестра оказалась дочерью крупного чина в МГБ. От службы в аппарате министерства Ким отказался, а вот в охрану пошел с удовольствием.
И с еще большим рвением Ким принялся служить тому, чье слово могло кинуть его навстречу любой опасности, тому, ради которого он, как и тысячи других, мог отдать жизнь.
Свободными от дежурства вечерами Сергей и Ким шли купаться. Лежа на остывающей гальке и рассеянно глядя вслед окунающемуся в море оранжевому диску, они болтали о разных разностях, вспоминали Москву. Большей частью говорил Ким, любивший, когда его подолгу благодарно слушали (Сергей уловил эту особенность соседа). Он не имел ничего против и не перебивал: Киму было что рассказать. Впрочем, при всей своей словоохотливости он не говорил ничего такого, что выходило бы за рамки отпущенного и отмеренного людям их профессии. Ни к чему не обязывающий треп Ким никогда не путал с чем-либо более серьезным – это Сергей сразу же уяснил себе. И однако Ким несомненно доверял ему, иначе с какой стати делился бы историями вроде приключившейся с ним летом сорок пятого.
– В Потсдаме было дело, на Конференции, – начал он, зачерпывая горсть мелкой гальки и выпуская ее струйкой, точно содержимое песочных часов. – Я хоть и бывший смершевец, но еще салажонок, только начал привыкать ко всему. Стою на часах, чую – приспичило отлить. Борюсь с собой изо всех сил. Полчаса проходит, еще полчаса, совсем невмоготу становится, а где во дворцетуалет, понятия не имею. Мучился, мучился, вот-вот пузырь лопнет. Пошел искать. Тыкаюсь в одно место, в другое – все не то. Пустынный коридор, в нем двери, открываю первую попавшуюся и в аккурат попадаю на товарища Сталина. Ходит по комнате, трубку курит, размышляет. Удивленно так посмотрел: “Что вам нужно?” Я обмер, растерялся, вырвалось сам не пойму как: “Туалет ищу”. Товарищ Сталин вынул трубку, пожевал губами, но не обругал меня-олуха, не выгнал вон, а нажал кнопку у стола. Появился человек в полковничьей форме, замер по стойке “смирно”. Я этого полковника до того видел на общем инструктаже. “Помогите ему, – кивая в мою сторону, обращается к полковнику товарищ Сталин. – И смотрите, не наказывайте его строго. Вы виноваты, обязаны были показать заранее…”
Получил я вздрючку от начальства, три наряда вне очереди. Если бы не заступничество товарища Сталина, ввинтили бы как следует.
Сергей обратил внимание: Красноперов н и к о г д а не говорил “Сталин”, “Хозяин” или “Отец”, как большинство охранников, – непременно “товарищ Сталин” и никак иначе. Более других открытый, конечно, насколько позволяла служба, Ким в данном случае отнюдь не бравировал своей любовью к вождю – безграничная любовь эта заполняла все его существо, составляла основу его существования, и то, что в устах кого-то выглядело бы нарочитым и в силу этого фальшивым, в устах Кима выглядело естественным и органичным.
Возможно, именно поэтому он не одобрил увлечение Сергея, заключавшееся в редком умении копировать голос и акцент Хозяина. Собственно, назвать это увлечением было бы несомненной ошибкой: всего-то один или два раза в присутствии Кима Сергей повторил слова вождя, сказанные им в присутствии охраны, повторил абсолютно точно, с той долей вкрадчивой мягкости и скрытой пружинистой силы, которые были свойственны Хозяину. Открыв в себе редкостный дар еще в Кремле, Сергей таил его, не растрачивая по мелочам. Лишь иногда, когда выпадало соответствующее настроение, он пробовал копировать, причем это не носило и намека на баловство, шутку или своего рода игру, отнюдь. Он бы никогда не позволил себе, да и не посмел бы п о д о б н ы м о б р а з о м относиться к фразам Хозяина, пусть самым обыкновенным, не носившим отпечатка гениальной прозорливости и величайшей мудрости, допустим, о погоде. Знал он и о небезопасности такого занятия, давал себе зарок и сам же нарушал его в присутствии Кима – ни единой душе он больше не демонстрировал свое умение.
Тот, однако, недовольно морщился, хотя и признавал: сходство удивительное, просто-таки замечательное.
Сергей попробовал с ним объясниться.
– Ты, Ким, конечно, видел в кино Ленина? Щукин его изображает. Так вот он картавит, как Владимир Ильич. И Геловани играет Сталина в “Клятве” очень похожим. У тебя же это не вызывает возражений, верно?
Миндалевидные глаза Кима словно бы темнели изнутри.
– То в кино, Сережа, а в жизни иначе. Ты скопируешь товарища Сталина, за тобой другой, что же получится? Товарищ Сталин единственный на всю страну, на всю планету, а люди начнут его голосом разговаривать.
Больше Сергей к этой теме не возвращался.
По иронии судьбы именно в те дни он дважды видел Хозяина в метре от себя, слышал его голос. Первый раз – в столовой, где питалась охрана, все семьдесят или восемьдесят человек. Кормили обильно, так, как Сергей сроду не ел в Москве. Единственно, выходила закавыка со вторым. Обслуживавшие столы официантки, стократно проверенные, как и прочая прислуга, подносили меню и спрашивали: “Что будете заказывать?” Написанные от руки названия вроде бефстроганов, азу, бифштекс, деволяй поначалу ни о чем не говорили Сергею. Стыдясь своего незнания, он постоянно заказывал знакомое – котлеты. Сам же следил за тем, что выбирает Ким. В течение полутора недель Сергей разобрался во вторых блюдах и с удовольствием просил то одно, то другое, чередуя их.
С первым таких проблем не возникало. Повар Вася по кличке Рыжий, бывший моряк-балтиец, с которым в войну, говорили, что только не приключалось: и горел, и тонул, и ранен был в грудь навылет, словом, боевой малый, – готовил исключительно борщ. Готовил, правда, мастерски, но вскоре народу поднадоела вареная свекла, и он стал выражать легкое недовольство. И тут внезапно столовую посетил Сталин.
При его появлении все как по команде встали и замерли. Хозяин медленно прошелся между столами и остановился рядом с Красноперовым и Лучковским. Сергей заметил, как моментально подобрался, напружинился Ким, поедавший вождя глазами и даже, казалось, не моргавший.
– Опять борщ… – сказал Сталин и нахмурился. – Позвать повара.
Через несколько секунд перед Хозяином предстал Рыжий в белом колпаке и фартуке, из-под которого виднелась тельняшка. Он держал руки по швам, на мигом побелевших щеках и лбу отчетливо проступили веснушки.
– Ты почему кормишь людей одним борщом? – тихо произнес Хозяин, и стало заметно, как Вася вздрогнул. – Люди должны питаться хорошо и разнообразно. Разберись с этим поваром, – сделал поворот головы в направлении Носика. – Если ленится, отправь в Москву. Если не умеет, дай ему повара из местных, пусть покажет, как харчо готовят. Наказывать не надо, учить надо, – и, ни на кого не глядя, двинулся к выходу.
Сгустившиеся было над головой Рыжего тучи развеялись – другого он варить действительно не умел, то есть сварить, конечно, мог, но не так, по его понятиям, вкусно, как флотский борщ с дымком. К нему приставили повара-мингрела, по слухам, работавшего ранее у министра госбезопасности Абхазии Гагуа, и теперь борщ чередовался с харчо.
Вторично Сергей близко увидел Хозяина в совсем не подходящем для этого месте – у подвального склада в момент разгрузки яблок. Каждую неделю специально для охраны привозили фрукты, оставляли ящики на складе, Сергей вместе с другими писал на крышках домашние адреса, и посылки уходили в Москву. В этот раз привезли крымские яблоки, Сергей помогал разгружать их с открытого борта грузовика в подвал.
Сталин появился незаметно, встал у кабины машины, ничем не выдавая своего присутствия, и молча наблюдал за разгрузкой. Сергей заметил его, только когда тот заглянул в подвальный люк, куда ящики осторожно спускали по наклонной доске, придерживая с боков.
– Разве так разгружают? – недовольно пробормотал он. – Положи сюда ящик и отойди, – ткнув пальцем в край доски, приказал Сергею. – Ящик должен сам идти по наклонной, как по рельсам. Помогать ему, придерживать его не надо, – и Сталин с силой толкнул ящик подошвой полуботинка. Ящик полетел вниз, соскочил с доски и шмякнулся о бетонный пол. Яблоки рассыпались, их услужливо бросились подбирать находившиеся внизу.
Сталин пожал плечами и отошел с непроницаемым лицом.
Удивительно, но все происходившее в ту пору на глазах Сергея и с его участием помнилось так живо, со столькими подробностями, будто дело было вчера.
Распрощавшись с “органами”, Лучковский лелеял надежду: с годами сотрется многое из того, что видел и слышал, забудутся имена – для чего держать в памяти бесполезный и вредоносный груз. Вышло, однако, по-иному: прошлое продолжало тянуться за ним, как инверсионный след за самолетом.
Как-то на дне рождения у институтского приятеля затеялся разговор, вернее, полупьяный треп о Сталине. Кто уж начал, Лучковский не уловил. К такого рода разговорам он относился с некоторым предубеждением, и вовсе не потому, что затрагивалась личность человека, бывшего в определенные годы предметом его искреннего поклонения и любви. Многое давно переменилось в самом Сергее Степановиче и вокруг него, открылось неопровержимо доказанным то, о чем Лучковский и не подозревал в молодую свою, замешенную на горячей вере пору. Длившаяся в нем не один год мучительная борьба заставила изгнать из сердца остатки иллюзий. Нет, иное рождало в Лучковском скрытое предубеждение. Нутро его отторгало досужие выдумки, сплетни, пересуды, отличить от реальности которые ему не составляло труда. Если рассуждать о Сталине, а рассуждать необходимо, то на таком уровне, какого заслуживает он, впитавший в себя знамения и пороки времени, вначале породив их.
А за столом выдувал байки из пухлого рта, как мыльные пузыри, душа компании – веселый брюнет с расчесанными на пробор гладкими лоснящимися волосами.
– У Сталина существовало множество дач, одна из них – на Валдае. Бывал он на ней раза два от силы. На даче в вольере жили белки, следил за ними сторож лет семидесяти. Приехал однажды Сталин, один из охранников подзывает деда и дает ему указание: “Белок вычистить, вольер убрать, орехи наколоть и положить вот в это блюдечко. Завтра рано утром товарищ Сталин будет кормить зверушек с руки”.
Полдня дед наводил марафет в вольере. Да, видно, от волнения забыл дверцу запереть. Встает на рассвете и, к ужасу своему, лицезреет такую картину: вольер нараспашку, ни одной белки в нем нет. Тут во двор выходит Сталин, берет горсть орехов и направляется к вольеру.
– Товарищ Сталин, извините, разрешите доложить! – орет в беспамятстве одуревший от испуга сторож.
– Что такое, почему крик? – недовольно морщится Сталин.
– Разрешите доложить: белки убежали!
Сталин остается с вытянутой рукой, в которой зажаты орехи, непонимающе смотрит на деда, потом поворачивается и бросает через плечо: “Вэрнуть!”
Ну, тут началось… Ободрали все ближайшие зооуголки, к следующему утру два десятка белок резвилось в вольере. Деду, конечно, вломили. Больше он не забывал дверцу запирать.
Лучковский машинально ковырнул вилкой остатки салата в тарелке. В том, что рассказанная история – типичная туфта, он не сомневался. Правительственная дача на Валдае действительно существовала, но Сталин никогда не жил в ней. Дача располагалась на полуострове, вела к ней единственная асфальтированная дорога, за воротами дом охраны, хозяйственные постройки, и больше ничего. Впервые приехав сюда, Сталин обошел территорию, вернулся к машине хмурый и укатил, бросив напоследок зловеще-шелестящее: “Ловушька”. Где уж там было взяться белкам… Поразвлекал гостей толстогубый брюнет, порезвился – и на том спасибо. И тут Сергей Степанович чуть не выронил вилку, услышав знакомое: “Носик”.
Произнес врач из Боткинской, в чьей палате, как понял Сергей Степанович, в конце шестидесятых умирал от рака Носик. Судьба круто обошлась с генералом – покидал он белый свет в страшных муках. Боли сводили его с ума, он просил, умолял палатного врача постоянно вводить ему морфий.
– Я узнал, кто такой Носик, – негромко рассказывал врач, нервно теребя бумажную салфетку. – И знаете, что-то во мне перевернулось. Отца моего забрали в тридцать восьмом, я тогда только в школу ходить начал, больше его не увидел; брат отца – авиаконструктор тоже сидел, вместе с Туполевым, правда, перед войной вышел. А тут буквально на глазах разлагается, воет от боли, плачет генерал из тех, кто… И ты должен, обязан облегчить ему страдания. Должен, обязан, а нутро восстает, мстительное чувство одолевает, и нет с ним сладу. Уговариваю себя: он же, Носик этот, лично никого не сажал, не судил, не убивал, и тут же сам себе в противовес – он о х р а н я л душегуба, оберегал его как зеницу ока, когда гибли миллионы, и уже одним этим виновен перед ними, передо мной, потерявшим отца…
– И что же, давали вы ему морфий? – с усилием вытолкнул из себя Лучковский.
Врач скомкал салфетку и бросил на скатерть.
– В палатах не хватало санитарок, Носик делал под себя, приходилось помогать нянечке перестилать. Я брал его на руки, он обнимал меня за шею, как ребенок. Весил он килограммов сорок, не больше, живой скелет. Да, давал, давал морфий, сам вкалывал! – сорвался на крик. – Ненавидел его и колол!
Но все это случилось много позже, а покуда младший лейтенант Лучковский беспрекословно выполнял волю генерала Носика, целиком и полностью зависевшую от желаний одного-единственного лица, именуемого в газетах великим вождем и учителем советского народа, родным и любимым Сталиным.
Желания эти безошибочно угадывались Носиком по едва заметным признакам, порой читались им по выражению глаз, линиям губ, улавливались в потемках чужой души. За то и держал его Хозяин при себе столько лет, что не требовалось ему, как и другому человеку из ближайшего окружения — помощнику Поскребышеву, тихому, незаметному и исполнительному, — разжевывать, повторять, объяснять. Сам соображал.
На даче в Мюссере вдруг поступил приказ: не попадаться на глаза Хозяину, рассредоточиться, скрыться в кустах, за деревьями, ни на мгновение не выпуская его из виду, сидит ли он в кресле на открытой террасе, прогуливается ли по саду, едет ли в машине. Но чтоб он никого из охраны не видел. Приказ исходил от самого Носика. Дежуривший на даче Ким растолковал Сергею: оказывается, Хозяин ни с того ни с сего обронил в присутствии генерала: “Почему их так много? От кого меня защищают, от моего народа?” Носик смекнул и моментально приказал охране «скрыться».
Игра в пряталки продолжалась недели две. Даже возле ворот, откуда выезжал бронированный «ЗИС-110», Хозяин никого не видел: Сергей, например, садился на корточки и скрывался за наполовину остекленной будкой с телефоном.
Кончилось так же внезапно, как и началось. По словам Кима, Хозяин вызвал Носика и отчитал: “Почему их не видно? А если со мной что-то случится?”
Хозяину надоедала оседлая жизнь, и он начинал объезжать окрестности, как положено, со свитой. Иногда делал привал в лесу, по его просьбе разводили костер, он жарил мясо на шампурах и угощал охрану, снисходительно принимая похвалы.
Как-то, остановившись по дороге в Сухуми возле уличного прилавка с фруктами, вылез из машины и начал раздавать виноград и персики словно из-под земли выросшим детям. Народ вокруг сумятился, кричал: “Слава товарищу Сталину!” Садясь в машину, бросил через плечо Носику: “Заплати”.
Будучи свидетелем всего этого и многого другого, Лучковский, сам того не замечая, подспудно начинал анализировать, разбирать и оценивать увиденное и услышанное – притом вовсе не безотчетно, безоглядно. Нет-нет и ловил себя на том, что ищет и не всегда находит объяснение поступкам и словам Хозяина, меряет их на свой аршин, будто речь идет об обыкновенном человеке, а не о вожде народов. “Кто дал мне право на это? – пытался унять себя. – Я же жалкая козявка по сравнению с ним, смею ли даже п ы т а т ь с я д у м а т ь, как тот или иной поступок Хозяина сообразуется с конкретной ситуацией? Охраняю его – и все, баста, достаточно для моей незаметной роли”.
Но не думать Сергей не мог – таким, видно, уродился на свет – и чем больше размышлял, тем упрямее вползало в него нечто такое, что ставило в тупик. Бог спустился с небес, предстал в простом обличий – старый, утомленный, невзрачный, и Сергей, откровенно осуждая себя, не мог отделаться от навязчиво-тревожащего: он уже слепо не обожествляет его, то есть по-прежнему преклоняется перед ним, как все, однако скорее по привычке, а внутри, если не лукавить, нет фанатичной любви, как у того же Кима. Отчего все начало переворачиваться в нем, Сергей не ведал и потому пребывал не в ладах с собой.
А вскоре к иным своим наблюдениям и ощущениям Лучковский добавил еще одно, став свидетелем гнева Хозяина.
Произошло невиданное по меркам охраны. Виновником стал Элиава, начальник гаража особого назначения – ГОНа, отвечавший за весь транспорт Хозяина. Любитель пображничать, он не сдерживался в своем пристрастии к вину – за его спиной стояла фигура Берии, покровительствовавшего начальнику ГОНа. Изрядно набравшись в ресторане на Рице, Элиава захотел сам сесть за руль и отстранил шофера. Тот понял, чем это для него пахнет, и, не будь дураком, потребовал расписку. Элиава, которому море было по колено, нацарапал на бумажке несколько слов. Расписка эта потом спасла шоферу жизнь. А начальник гаража лихо покатил вниз с двумя пассажирами.
На повороте машину занесло, и она полетела с откоса. Элиава чудом успел выпрыгнуть, двое пассажиров, и в их числе начальник московского ОРУДа Некрасов, погибли. Поднятую по тревоге охрану бросили на место происшествия. Сергей вместе с другими извлекал трупы из-под обломков автомобиля.
Носик был вне себя от ярости. Докладывать Хозяину об этом случае надлежало ему, а уж он-то прекрасно знал, чем может это обернуться. Начальник сталинского гаража, приближенное лицо, пьяным сел за руль, угробил двоих, кошмар…
Объяснение состоялось утром возле ворот дачи. К несчастью для Носика, Сталин опередил его покаянное признание и сам спросил: что произошло вчера вечером? Откуда-то узнал. Сергей отчетливо видел насупленные брови Хозяина с узкими прорезями зло прищуренных глаз. Он молча выслушал генерала, зло пробормотал что-то по-грузински и ушел. А Носик, как побитый пес, поплелся восвояси.
Протрезвев, Элиава понял, что натворил, отчаянно испугался и три дня скрывался в горах. Каким-то образом узнав, что к Сталину приехал Берия, он спустился с гор и принес повинную голову. Благодаря покровителю карающий меч не отсек ее и начальника ГОНа, теперь уже бывшего, выдворили в Москву. По слухам, он стал заведовать мебельной фабрикой в Бутырской тюрьме.
Носик старался не показываться на глаза Сталину. После отправки Элиавы в Москву тот сам позвал генерала и мирно с ним побеседовал. Конфликт, таким образом, оказался исчерпанным.
…Дорога тянулась вдоль извилистого ложа Бзыби, то сужавшейся, то расширявшейся, с водой бутылочного отлива, легко и деловито стучавшей по камням и выбивавшей пенистые бурунчики. Впереди слабо синели горы, в близлежащие поросшие буком, грабом, орехом склоны вкрапились краски рыжеющей осени. Слева изредка виднелись серо-желтые скальные обнажения.
Строения и обихоженная земля нечасто попадались взору. Чем выше в горы поднимался многоместный “Икарус”, тем реже можно было видеть приземистые, вцепившиеся в каменистую почву дома и заскирдованные кукурузные стебли на огородах. Один раз наткнулись на стадо ценимых в этих местах коз, которых перегонял по шоссе еще не старый, весь седой пастух с ружьем и посохом. Козы неохотно уступили дорогу, блея и тряся бородами, – они чувствовали себя хозяевами положения. Лучковский помнил еще с той поры, когда шесть месяцев прожил здесь: за абхазским столом главный деликатес – козлятина.
Шахов с интересом поглядывал по сторонам, крутил шеей, нагибал голову, смотрел в стекло снизу вверх, стараясь увидеть много больше того, что давал оконный обзор. Это он предложил Сергею Степановичу записаться в экскурсию на Рицу, признавшись, что раньше не бывал на озере. И вот автобус мерно тащил их вверх, изящно, несмотря на свои габариты, вписываясь в покуда плавные, некрутые изгибы дороги.
Сергей Степанович ехал здесь в третий раз, если зачесть крутые виражи, закладываемые на “виллисах” в пятьдесят первом, к даче и от дачи Хозяина. Спустя одиннадцать лет, отдыхая с женой в гагринском пансионате, он решил показать ей эту дорогу и озеро. Дряхленький экскурсионный автобус натужно скрипел на подъемах, глазевшая в окна публика мечтала об одном – скорее бы кончились бесконечные повороты и взору их предстало бы легендарное, овеянное великим и страшным именем озеро. И была внезапная встреча, отголосок той прежней жизни Лучковского, которую он без особой нужды старался не вспоминать, а уж если вспоминал, то не испытывал отрады.
Собственно, встреча произошла много раньше, на пляже. Прижмурившись и каждой клеточкой расслабленного тела вбирая благословенное сентябрьское солнце, Сергей Степанович вдруг ощутил, что солнце куда-то исчезло и на лицо набежала тень. Он открыл глаза и увидел стоящего над ним человека, внимательно рассматривающего его, скорее, даже изучающего его, склонив голову набок. Он был в огромных безразмерных черных трусах, обтягивавших раздутый, как у беременной на девятом месяце, живот. Неуловимо-знакомое мелькнуло в его облике. Пока Лучковский соображал, тот одышливо заговорил с грузинским акцентом:
– Извините, вы Сергей? Я узнал вас. Очень рад видеть…
И точно тумблер сработал в мозгу: ну конечно же, директор мацестинского санатория, ублажавший молодого охранника всем, чем мог. Сдал, постарел…
Акакий Шалвович пошарил глазами вокруг, свободного места было сколько угодно, но сесть или лечь рядом с Лучковским представлялось ему нелегким делом – мешал живот. Сергей Степанович мигом поднялся и протянул руку. Акакий Шалвович долго с чувством тряс ее. Соне он представил его как знакомого по прежней работе на Кавказе, и жена в ответ настороженно сделала намек на улыбку.
Обменявшись несколькими приличествующими моменту словами, они пошли прогуляться по пляжу. Акакий Шалвович сообщил, что сейчас на пенсии, в Гагре у него дом с фруктовым садом, живет неплохо, дети, слава богу, устроены, вот только печалят события извне: сколько можно валить на Сталина? И старых большевиков уничтожил, и полководцев, и массовые репрессии организовал… И за все он один в ответе, будто не было рядом Берии и других. Да не знал многого Иосиф Виссарионович, опутали его. И надо еще разобраться, так ли уж невиновны эти самые партийцы и полководцы.
Сергей Степанович чувствовал: говорится специально для него, видно, наболело у Акакия Шалвовича, кому, как не бывшему охраннику Хозяина, излить душу. Развивать наболевшую тему ему не хотелось, ибо тогда вынужден был бы наступить спутнику на любимую мозоль, поэтому он большей частью молчал или невнятно поддакивал. О себе рассказывал скупо: числится в институте младшим научным сотрудником, занимается историей. Акакий Шалвович смотрел на него п р е ж н и м, полным уважения и поклонения взглядом, как тогда, в мацестинском санатории, и словно говорил: молодец, я ни на минуту не сомневался, что ты многого добьешься, ведь не зря тебе доверяли серьезное государственное дело.
– Сергей, я приглашаю вас в гости, – сказал напоследок Акакий Шалвович.
Лучковский начал отнекиваться: без жены он никуда не ходит, а Соня не большая любительница компаний, тем более на отдыхе, где после московской суеты хочется уединения.
– Обижусь, если не придете, – настаивал Акакий Шалвович.
Сошлись на том, что Сергей Степанович попробует уговорить жену. Оставив свой домашний телефон, Акакий Шалвович попрощался и вновь с чувством пожал руку Лучковскому.
Соня подвергла мужа допросу: кто этот человек, несколько успокоилась, узнав, что некогда всего-навсего директор санатория, то есть не бывший сослуживец мужа, о чем она подумала в первое мгновение после знакомства. Ко всему тому, что окружало Сергея Степановича в течение недолгих лет с л у ж б ы, она относилась отчужденно и боязливо, как к заразной болезни, от которой с трудом удалось вылечиться, хотя открыто и не подчеркивала этого, дабы не бередить старое. Идти в гости категорически отказалась, выдвинув неожиданный и в то же время веский аргумент:
– Твой Акакий соберет уйму народа и начнет приставать: “Расскажи о Сталине”. Сейчас для таких, как он, самый момент предаться воспоминаниям и одновременно поносить Хрущева.
Сергей Степанович подивился проницательности и житейской мудрости жены: а ведь наверняка так оно и было бы.
И надо же случиться: столкнулись с Акакием Шалвовичем не позднее чем через три дня. Приехавшим на Рицу экскурсантам отвели два свободных часа, и Сергей Степанович повел жену перекусить в ресторан, мало изменившийся с той поры, когда охрана Хозяина заезжала сюда отведать непревзойденное лобио, сациви и шашлык на ребрышках. Они заказали обед, отправившийся на кухню официант неожиданно быстро вернулся и водрузил на стол две бутылки Цинандали.
– Мы не заказывали вино, – удивился Сергей Степанович и услышал от официанта:
– Вам прислали с того стола.
Обернувшись, Лучковский увидел расплывшегося в улыбке Акакия Шалвовича. Екнуло: принесла же его нелегкая или, наоборот, занесло нас сюда не вовремя. Делать было нечего: он улыбнулся в ответ и помахал рукой. Не отсылать же бутылки обратно – большей обиды для кавказца не существует, к тому же такого отношения бывший директор не заслужил.
Акакий Шалвович немедля подошел к ним, раскланялся и тут же потянул за свой стол, не желая слушать возражений.
– Друзья мои, для меня такая неожиданная радость видеть вас здесь, что вы просто не имеете права лишить меня ее.
Он и впрямь сиял. Ничего не оставалось, как пересесть за его стол, за которым находилось трое пожилых мужчин.
Акакий Шалвович предложил выпить за здоровье дорогих москвичей, приехавших отдохнуть на Кавказ. Расторопный официант, которому один из сидевших что-то шепнул, мигом притащил целый поднос еды, включая копченое абхазское мясо, перепелов и форель, не значившиеся, насколько мог свидетельствовать Сергей Степанович, в меню. Соня принужденно улыбалась, он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Тосты следовали один за другим: за красивую женщину Соню – украшение их стола, за Сергея – друга батоно Акакия, за наших детей – пусть жизнь у них будет неомраченной, за мир во всем мире.
Акакий Шалвович встал и, держа бокал в правой руке, левую положил на сердце.
– Друзья мои, – произнес он громче обычного и тяжело, как астматик, задышал. – Я провозглашаю тост за великого человека. Десять лет его нет среди нас. Но память о нем живет в сердцах (он слегка хлопнул себя по груди) миллионов людей. И что бы сейчас ни говорили о нем, он навсегда останется для нас мудрым учителем, творцом Победы, вдохновителем всего того, что сделало нашу советскую действительность еще краше. Я предлагаю стоя выпить за товарища Сталина!
Чего угодно мог ожидать Лучковский, только не этого. Как права была Соня… Она сидела без движения, побледневшая, сжавшаяся в комок, но ее застывшая поза не говорила о растерянности, подавленности и уж вовсе не выражала готовность сию секунду вскочить и солидарно поднять бокал, напротив, выглядела вызовом. Инстинктивно качнувшись к ней, Сергей Степанович обнял ее за плечи.
– Не смей с ними пить, – чуть слышно, не разжимая губ, вымолвила она, передав свою волю ему, лихорадочно соображавшему, как выйти из неловкого положения, никого не обидев и не задев.
– Что случилось? – обеспокоенно спросил Акакий Шалвович.
– Плохо себя почувствовала, – нашелся с ответом Лучковский, и Соня кивнула, как бы подтверждая.
– Это не страшно, это бывает у женщин, – успокоил Акакий Шалвович и поднес бокал к губам.
Стоявшие выпили до дна и уставились на Сергея Степановича с молчаливым вопросом: а ты почему не пьешь?
И тут возле них оказался моложавый, гладко выбритый, с заметным рубцом на подбородке, похоже, следом ранения, и поседевшими висками мужчина с налитой доверху рюмкой коньяка. Акакий Шалвович посчитал, что он хочет присоединиться к их тосту, и располагающе повернулся к нему всем своим рыхлым расплывшимся телом. Но внезапно подошедший не стал пить и чокаться. Голубые, прямо-таки васильковые неожиданные глаза его налились бешеной мутью. Гортанно выкрикнув что-то по-грузински, отчего лица у соседей Лучковского начали вытягиваться, он перешел на русский, которым владел безупречно.
– Как можете вы пить за убийцу, душегуба, уничтожившего цвет грузинской нации? Где семьи Сванидзе, Енукидзе, Джапаридзе, где Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, где тысячи других? Смотрите, зал почти полон, а никто вас не поддержал. Думаете, все грузины – сталинисты? Мы помним своих безвинно погибших отцов, помним жен и детей, высланных из Грузии и мыкавшихся по свету. Мы все помним! И войну выиграл не он — народ. Я воевал, видел, знаю. И я не хочу пить за Сталина! – Он с замахом бросил рюмку о пол так, что на рубашку попали капли.
– Ты… бандит, сволочь… как смеешь оскорблять… – Один из компании Акакия Шалвовича зацепил стул ногой и, едва не споткнувшись, бросился на демонстративно разбившего рюмку.
С соседних столов повскакали и кинулись к ним – разнимать. “Бандит, сволочь!” – неслось из кучи малы. Акакий Шалвович стоял, разведя руки, совершенно ошарашенный, и только приговаривал: “Какой позор, какой стыд…”
Воспользовавшись суматохой, Сергей Степанович и Соня незамеченными покинули ресторан.
Сколько же минуло с той поры? Да, четверть века. Вспоминая теперь поездку на Рицу и ресторанный скандал, Сергей Степанович краем глаза проследил за уставившимся в окно Шаховым и вдруг подумал ни с того ни с сего: как бы тот повел себя в похожей ситуации? И сам же ответил с неопровержимой вескостью – наверняка так же, как голубоглазый грузин со шрамом на подбородке.
«Икарус» затормозил и подрулил к пятачку, став возле таких же многоместных автобусов. Промежуточная стоянка на полпути к Рице. Вокруг прогуливались экскурсанты, шла торговля фруктами и сувенирами.
– Голубое озеро, – пояснил Лучковский и вышел из автобуса.
Первая достопримечательность дороги – озеро и впрямь казалось голубого цвета. В нем плавали утки с белыми шеями и черным оперением. Малюсенькое, заключенное в плен скалами, оно приманивало туристов, желавших непременно сфотографироваться на его фоне. На площадке возле самой воды предприимчивый фотограф завлекал гостей натурой – чучелом стоящего на задних лапах рыжего облезлого медведя и живой лошадкой. Лошадка привлекала куда больше, нежели траченный молью, с глупыми пуговичными глазами косолапый. Каждую минуту в седло запрыгивал или тяжело вскарабкивался, в зависимости от комплекции, очередной позирующий, на него набрасывалась видавшая виды бурка, надевалась папаха, и новоиспеченный джигит увозил домой, за многие тысячи километров, короткое, как глоток живительного горного воздуха, мечтательное воспоминание о лихом скакуне, доставившем его на скалистый берег голубого озера, подкрепленное затем цветной фотографией, которая через месяц-другой приходила на его адрес. А лихой скакун, то бишь разжиревшая кобылка, наверное, давно возненавидевшая и свою долю, и беспрестанно меняющихся седоков, и фотографа, взявшего ее напрокат и подвигнувшего на столь пустяковое, никчемушное занятие, готовая променять его на любую лошадиную крестьянскую работу, понуро свешивала гриву, и в ее огромных зрачках читались печаль и усталость.
За Голубым озером дорога запетляла, накручивая виток за витком, втягиваясь в короткие тоннели и снова вылетая на открытое пространство. В горных расселинах полыхали кустарники, словно кто-то мазнул по камням кармином. Бзыбь сменили Гега и Юпшара, такие же бойкие, говорливые и стремительные. Последние пять километров пути стало слегка закладывать уши.
Рица предстала огромной сверкающей, окропленной солнцем чашей. Экскурсовод потянула высадившихся из автобусов за собой, а Лучковский и Шахов молчаливо переглянулись, поняли друг друга и направились вдоль берега, намереваясь осматривать озеро в тиши и уединении. Они прошли несколько сот метров, вглядываясь в менявшую цвет в зависимости от освещенности солнцем воду. В ней отражались лесистые горы вплоть до макушек высоко растущих деревьев. Резкий, острый воздух щекотал ноздри, распирал грудь.
– Какое невозмутимое спокойствие, – меланхолически произнес Шахов. – Сменяются эпохи, приходят и уходят властители, а озеро все то же, и вокруг ничего не меняется.
– Только, я смотрю, убрали прогулочные катера, – заметил Сергей Степанович, спустив Шахова с философских высот. – Наверное, чтоб воду не загрязняли.
— Бьюсь об заклад: один из первых вопросов наших любознательных письменников к экскурсоводу – расскажите о даче вождя, что с ней сталось?
– А вы на сей счет не проявляете любопытства? – поинтересовался Лучковский как бы между прочим.
— Нет, отчего же. Все связанное с этой фигурой по-своему поучительно. Да только что может знать отрабатывающая свой хлеб девица, не видевшая это собственными глазами, питающаяся стократно повторенными байками и легендами.
Сергей Степанович многозначительно хмыкнул и согласился: из уст тех, кто находился рядом с Хозяином, конечно, было бы интереснее услышать, но где же они теперь, очевидцы и свидетели? Разметало их по свету, большинство вымерло, некоторые забились в норы и носа не кажут, другие давно сменили, так сказать, профиль и в рот воды набрали, а иные, их совсем мало, единицы, и рады бы исповедаться, но совесть заедает – кому, спрашивается, служили… Лучковский горестно и очень л и ч н о усмехнулся и поглядел на Шахова.
Он вдруг ощутил странное томление и беспокойство. Словно кто-то изнутри подавал молоточком слышные только ему сигналы. Настроился на них и вдруг понял причину: она крылась в его и Шахова сиюминутном пребывании именно здесь, в данной географической точке, в названии озера и всего окрест, незримо привязанного к тому, что окружало Лучковского много лет назад, в пору молодости. И в этот момент что-то прорвалось в нем, выхлестнулось наружу отчаянным и неукротимым желанием – снова увидеть то, от чего он давно бесповоротно ушел и что напрочь избыл в себе. Он не боялся этой встречи, она ничего не могла стронуть и поколебать в нем, и страстно ее желал, не отдавая себе отчета в исходном моменте своих желаний.
Они пошли берегом озера и меньше чем через час приблизились к окрашенным в голубое деревянным строениям. Экскурсанты и туристы обычно сюда не попадали, не зная их расположения, поэтому Лучковский и Шахов бродили здесь в одиночестве.
Войдя на некогда хорошо знакомую ему территорию, Сергей Степанович внутренне ахнул. Повсюду царило запустение. Двухэтажная выморочная “молотовская” дача выглядела так, как снятые в кино обветшавшие, давно покинутые барские усадьбы: с кой-где провалившимся, полусгнившим полом, заколоченными окнами, обрушившейся балюстрадой веранды. Только железная кровля сохранилась и даже не проржавела. Жалкое зрелище некогда внушительного строения колыхнулось в Лучковском полуугасшими воспоминаниями, и ему стало не по себе.
Он пояснил Шахову, кто прежде жил в этом доме, показал на чудом сохранившийся балкон второго этажа, заметив, что в комнате с балконом часто гостила дочь Сталина и ее так и называли: “комната Светланы”. Шурша палой листвой, они обошли дачу кругом и еще более поразились ее виду.
Сбоку, в нескольких десятках метров, стоял еще один дом с наполовину проваленной крышей. Он был попроще, незатейливее и напоминал служебное помещение. Так воспринял его Георгий Петрович, сказав об этом вслух, и не ошибся. В ту пору, когда в нем обосновалась охрана Хозяина, был он крашен в зеленое и выглядел совсем иначе. Ведомый не вполне понятными ему ощущениями, Сергей Степанович проследовал вдоль фасада, остановился у предпоследнего в ряду окна, зиявшего пустой рамой, и застыл, как вкопанный. Тут он некогда отдыхал после дежурств на даче Хозяина, тут текла его прежняя жизнь, не обремененная сомнениями и угрызениями, подчиненная строгому распорядку, регламентированная до мелочей, простая и ясная.
Простоял он, наверное, долго и дал повод спутнику недоуменно спросить, что особенного нашел он в этом окне и вообще в покосившемся изъеденном старостью доме. Сергей Степанович словно очнулся и повел Шахова дальше, глотая пьяный разреженный высотой воздух и пытаясь унять сердцебиение.
Они остановились у бывшей резиденции Хозяина, существовавшей для приема гостей. Давным-давно Лучковский от кого-то услышал: не то в шестьдесят шестом, не то годом позже она сгорела. Вся, дотла. Теперь ему предстояло воочию увидеть то, что осталось от некогда монументального, расположенного буквой П сооружения, обшитого изнутри мореным дубом, который Хозяин предпочитал другим видам отделки, с обилием цветов и двумя бьющими фонтанами. Ничего этого не было и в помине – от резиденции осталось лишь высокое, почти в человеческий рост каменное основание с нишами. В бездействующие фонтаны набились желтые листья. Сергей Степанович вспомнил самую первую встречу с вождем в Кремле, нагоняй, полученный за листья в фонтане, и непроизвольно улыбнулся.
Шахов теребил его вопросами, на которые получал лаконичные, порой невнятные ответы, – Лучковский сдерживал себя, не желая раскрывать источник сведений обо всем, что открывалось их взору. Сердцебиение его потихоньку унималось.
– Мертвая эпоха, – тяжело выдохнул Шахов и закурил. – Некий великий зловещий символ во всей этой разрухе, не находите? Канули в Лету боги, в прах и тлен превратилось все, что их окружало. Мертвая эпоха, – повторил он. – К счастью, ее уже не оживить. Очень надеюсь на это. Будь моя воля, специально водил бы сюда туристов: глядите, вот дома, умершие вместе со своими владельцами, словно само время не пожелало брать с собой.
Несколько шагов, и стал слышен веселый звон стучавшей по камням воды. К озеру они вышли аккурат в месте впадения в него Лашапсе – горной речки, текущей с Авадхары. Белые бурунчики вспыхивали то тут, то там, обозначая последние усилия неистовой Лашапсе, отдающей всю себя в распоряжение величественной Рицы. Окрест пестрела зелено-желто-коричневая растительность. Справа, метрах в трехстах, виднелся причал с одиноким катером.
– Хотите увидеть дачу Хозяина? – с внезапной решимостью предложил Лучковский.
– Разве она еще существует? – сделал круглые глаза его спутник.
– Понятия не имею, что там сейчас, – на сей раз Сергей Степанович сказал всю правду. Он действительно ничего не знал о судьбе дачи. – Попробуем подойти, попытка – не пытка.
– Как говаривал Лаврентий Павлович, – сощурившись в недоброй усмешке, продолжил Шахов.
Путь к небольшому плато, где многие годы пряталась от посторонних взоров дача Сталина, Сергей Степанович моментально восстановил в памяти. Правда, пешком от озера он, помнится, тогда не ходил – только на “виллисе”. Он уверенно зашагал по направлению к укрывшемуся пустынному шоссе, Шахов – рядом. Минут через двадцать шоссе в очередной раз вильнуло, и Лучковский замер на повороте. Впереди во всю ширину асфальтовой дороги маячили зеленые железные ворота.
Подойдя поближе, они увидели сбоку от ворот дверь, смотровое окошко и кнопку звонка. Тут же висела табличка:
“Проход воспрещен. Запретная зона”.
Все здесь для Лучковского было то же и – другое. У т е х ворот, например, имелась будка охраны, да и приблизиться к ним в пятьдесят первом для посторонних представлялось затеей невозможной – перехватили бы еще на подступах к озеру. А сейчас гуляй, свободно подходи.
Слева тянулся глубокий обрыв, в прогалах густо росших на склонах деревьев белел кусок крыши какого-то сооружения. Больше ничего видно не было. Сергей Степанович определил: дача, та самая, стояла на прежнем месте.
– Вот она, – указал Шахову вниз на белевшую крышу. – Сталинская.
Шахов долго вглядывался сквозь деревья.
– А теперь что здесь?
– Сдается мне, госдача. Чья-то.
Очевидно, их заметили. За воротами произошло шевеление, заскрипела дверь, и показался заспанный прапорщик.
– Вам чего? – спросил он, поправляя сползший ремень и хмуро уставился на непрошеных гостей.
– Нам? – переспросил Сергей Степанович. – Собственно, ничего. Гуляем…
– Запрещено, – пробубнил прапорщик и вступил обратно за дверь. – Идите на озеро, там и гуляйте сколько влезет.
Ничего не оставалось делать, как последовать совету и двинуться в обратном направлении. У впадения в озеро речки они остановились – уж больно красивый вид открывался отсюда.
– А вы хорошо ориентируетесь на местности, знаете, где что раньше находилось, – Георгий Петрович в упор смотрел на Лучковского. Нос его, как стрела над тетивой, нависал над сжатыми в ниточку губами, придавая лицу некоторую подозрительность. Или так мнилось Сергею Степановичу?.. Он стушевался было под остробритвенным взглядом и тут же успокоился: когда-то же придется открыться, не сегодня, так завтра, поэтому ничего страшного не случилось, и как можно небрежнее, словно мимоходом бросил:
– Знакомый служил в охране, рассказывал. Да я и сам раньше бывал в здешних местах.
Трудно было понять, удовлетворился Шахов объяснением или только сделал вид – поди его разбери.
– Что же еще рассказывал ваш знакомый?
–Да всякое разное.
– И все-таки? – не отступал Шахов.
Пришлось вспомнить историю с кефиром – первое, что пришло на ум. Георгий Петрович внешне никак не отреагировал, внимал словам не шелохнувшись, глаза его вовсе не мигали. Дослушав, стал независимо и отстраненно ходить взад-вперед по устланной еще не успевшей пожухнуть листвой дорожке, заложив руки за спину и являя собой человека, всецело поглощенного обдумыванием чего-то важного. Приблизившись к Лучковскому и туманно глядя поверх его головы, начал тихо и доверительно, точно делился сокровенным:
– “Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются усищи, и сияют его голенища…”
Незнакомые Сергею Степановичу стихи Шахов читал непривычно, не декламировал, не педалировал голосом для пущего эффекта, а рассказывал, повествовал, сообщал чуть ли не обыденное, житейское о каком-то горце с тараканьими усищами и сверкающими голенищами, и чем больше выкладывал таких бытовых подробностей, тем сильнее охватывало Сергея Степановича волнение. Он сопротивлялся, не принимал образа усищ: вовсе не тараканьими были они у того, кому посвящались стихи, а нутро требовало новых и новых подробностей, штрихов, деталей, которые превращали тень, витавшую над пустынной дорогой, купами деревьев, домами-развалюхами, горной речкой, в хорошо различимого человека, рождавшегося из шепота-заклинания Шахова: “А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет…”
Примстилось: вот он рядом, милостиво разрешает, как владыка бесстрашному шуту, говорить про себя правду, слушает, по обыкновению прищурив рысьи, тронутые старческой глаукомой глаза. А Шахов продолжал заклинать: “Как подковы, кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что ни казнь у него — то малина и широкая грудь осетина…”
– Странные стихи, – тихо произнес Лучковский.
А Шахов, держа скрещенные ладони на пояснице, опять маятниково ходил туда-сюда, словно и не было никаких стихов и все померещилось, привиделось, почудилось.
Они проследовали обратно к автобусной стоянке, озеро теперь было справа. Его пересекал одинокий белый катер, стоявший час назад на причале неподалеку от нынешней госдачи. Видимо, кому-то все-таки разрешались такие прогулки. Шахов продолжал говорить, не глядя в сторону Сергея Степановича, обращаясь как бы к самому себе:
– В чем парадокс Сталина, вернее, один из парадоксов, ибо душа его вмещала великое множество несоответствий и противоречий? В разладе между безупречным лозунгом и творимыми делами. Я бы сказал: в сознательном разладе. Вы его работы между Шестнадцатым и Семнадцатым съездами хорошо помните? Годы основополагающие, определившие всю последующую политику. А еще историк… – мягко укорил он. – Впрочем, не считайте меня большим знатоком, просто по иронии судьбы сохранилось в доме собрание сочинений, почему-то в свое время не выбросили, иногда почитываю. Полезно, знаете. Так вот, недавно пролистывал тринадцатый том, куда как раз вошли статьи и речи с тридцатого по тридцать четвертый годы. Поразительное открытие сделал, – улыбнулся Шахов. – Некоторые мысли гениального вождя звучат вполне современно, злобе нынешнего дня соответствуют. Точно с трибуны какого-нибудь теперешнего партхозактива произнесены. Скажем, рассуждает Сталин об ускоренном развитии индустрии и выдвигает шесть непременных условий. Тут и механизация труда, и борьба с текучестью рабсилы, и улучшение быта рабочих, ну, это понятно, это каждый школьник может назвать, и вдруг глазам не верю: ликвидация обезлички, уравниловки в зарплате, поднятие внутрипромышленного накопления и даже внедрение и укрепление хозрасчета. Поди поспорь с этим! А на практике – все наоборот, шиворот-навыворот, словно в насмешку: и невероятно тяжелый быт строителей той же Магнитки или Комсомольска-на-Амуре, и одинаково грошовая зарплата, и никакого хозрасчета в помине, а расчет лишь на беспредельный энтузиазм – «давай, давай, лезь из кожи вон». Думаете, только в промышленности было такое? В науке то же самое: лозунг превосходный, а за ним все совершенно иное, прямо противоположное его смыслу. Лицевая сторона и изнанка. В тех же “Вопросах языкознания” Иосиф Виссарионович марксист ну дальше некуда: наука, по его утверждению, не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Каково?! А с его благословения тем временем спокойно задушили генетику, и не ее одну, ошельмовали сотни ученых, не дав им и рта раскрыть в свою защиту. Зато на бумаге борьба мнений, свобода критики…
На Пицунду они попали, когда солнечный день шел на убыль. Обратную дорогу продремали, Шахов даже слегка всхрапнул.
Перед ужином он зазвал Лучковского к себе в номер, достал початую бутылку трехзвездочного коньяка, налил по четверти стакана и выпил свою долю залпом, закусив помидориной. Сергей Степанович пригубил и отставил.
– Э, да вы не по этой части, – удивился Шахов. – Принуждать не буду, вольному воля. А мне хочется выпить, на душе муторно, – налил себе еще. – Будто в не столь уж давнее злосчастное прошлое окунулся. С Хозяином, как вы его изволите называть, у меня свои счеты.
– У вас… репрессировали отца? – с остановившимся дыханием спросил Лучковский. Ладони его моментально вспотели.
Шахов сделал затяжной глоток, доел помидор и изменившимся голосом произнес:
– То особая история, когда-нибудь расскажу.
…Появление Берии и отправка в Москву наказанного Элиавы возбудили толки и пересуды. Обычно сдержанные, приученные не совать нос куда не следует, товарищи Сергея и он сам нет-нет и заводили разговоры, ничего категорически не утверждая, но с ходу и не отвергая разного рода предположения.
Приезд членов Политбюро на дачи к Сталину вовсе не выглядел чем-то необычным. Оторванный от московских дел и забот, покинувший Кавказ за лето и осень лишь однажды – на празднование в Тушине Дня Воздушного Флота (к авиации еще с поры Чкалова питал он исключительную привязанность), – Сталин периодически принимал у себя гостей из столицы. Сергей наблюдал, как появлялись в летних резиденциях Молотов, Каганович, Ворошилов, видел сына Хозяина – Василия, которому отец мирволил, но, по слухам, постоянно вправлял мозги за пьяные, далеко не безобидные проделки. После разговоров с отцом Василий обычно день-другой слонялся по даче хмурый и трезвый. Разное видел Сергей, но приезд Берии – впервые. И если близкое присутствие Хозяина по-прежнему рождало в нем волнение сродни тому, какое испытывает влюбленный, глядя на предмет своего обожания, то один вид человека в круглых очочках переполнял его страхом, унять который не хватало сил (пошло это, видно, с того самого злополучного падения Берии на скользком асфальте у Дома правительства).
Еще заканчивая десятилетку, Лучковский краем уха услыхал про Берию такое, чему поначалу не поверил. Якобы неровно дышит он к слабому полу, пользуясь неограниченными возможностями, залавливает красивых женщин, те подолгу живут у него в особняке на улице Качалова и на даче. Особенно тяготеет к несовершеннолетним. А если кто от него беременеет, тем выдает вознаграждение. Иногда прогуливается пешком от улицы Качалова до Арбата, этот его маршрут известен жителям близлежащих домов, красивые девушки и женщины – те прячутся.
Под большим секретом рассказывал это одноклассник Сенька, известный балабон, сын еврея-парикмахера. Сергей считал – враки, считал до той поры, пока сам не убедился – похоже на правду. Произошло это, когда он уже работал в охране.
У Берии имелось несколько автомобилей, в том числе черный “паккард”. Номер его Сергей мог назвать, разбуди его ночью. Однажды в укромном переулке близ улицы Горького видел: “паккард” притормозил, вышел телохранитель Берии – усатый вальяжный полковник (он был в штатском) и что-то шепнул проходившей мимо высокой блондинке, жестом показав – прошу в машину. Женщина в испуге отпрянула, потом покорно села. Сергей мог поклясться: на заднем сиденье находился сам Берия – в шляпе и с поднятым воротником пальто.
Бесповоротно убедился в том, что Сенька не врал, когда пропала знакомая девчонка Светка из соседнего дома. Было ей семнадцать лет, только-только поступила в медицинский институт, заглядывалась на нее вся Троицкая улица, где жил Сергей. Поражала ее походка: она не шла, а, казалось, плыла, не касаясь земли, легкая, воздушная. Отсутствовала Светка три месяца. Куда только не обращались родители… Появилась она, как и пропала, – внезапно. Ее словно подменили: какая там походка, ступала еле-еле, будто каждый шаг давался с трудом: испуг отпечатался во всем ее облике, начиная с прежде таких живых, а теперь огромных неподвижных глаз и кончая мелко подрагивающими пальцами рук. Светка молчала как в рот воды набрала, где была, что делала, про то ни звука. Каким-то образом просочилось: была т а м, у Берии. Интересно, что из института ее за непосещение лекций не отчислили, а наоборот, приставили к ней преподавателей, чтобы быстрее догнала…
Ким считал: Лаврентий Павлович появился на даче Хозяина неспроста и вовсе не потому, что следовало безотлагательно разобраться в делишках своего фаворита Элиавы. С этим и без него могли справиться.
– Опять же всю охрану с собой привез, – рассуждал Ким. – Не припомню такого.
Телохранители Берии бросались в глаза числом, а главное, обличием. Одетые в черное, с усами и бородами, жили они обособленно, ходили гуртом и вели себя подчеркнуто независимо.
Исходила от них внятно уловимая опасность – Сергей кожей чувствовал ее при их появлении.
Чувство тревоги усилилось на Лашапсе – Холодной речке, как называли ее местные жители. Лашапсе служила Сергею желанным местом уединения, где в свободный час он мог побыть один, подумать, поразмышлять. Потребность в таком уединении возрастала все больше. Находясь п р и и с п о л н е н и и, он словно бы терял нечто сокровенное, вернее, прятал, скрывал его глубоко внутрь, чтобы никому не было видно. У плещущей чистой как слеза воды нужда в таком сокрытии отпадала сама собой.
Уже на подходе к речке Сергей услышал гортанные выкрики. Раздвинув кусты, так и замер. Пританцовывая, подпрыгивая, похлопывая себя по голенищам сапог, по берегу сновали люди в черных одеждах. В неуемном порыве они бросались в воду, доходившую им до пояса, не входили, а именно бросались, вздымая тучи брызг, и, борясь с течением, опускали узкоячеистые садки. Все это сопровождалось дикими хриплыми возгласами, смехом, пением. Почему-то так они пытались ловить форель. Сергей рассказал про рыбалку Красноперову, тот хмыкнул:
– Дети гор. Темперамент в жопе играет. Однако это не самое страшное.
И тут же поведал историю про своего приятеля Жору Монастырева — одного из личных телохранителей Хозяина. Однажды он отправился порыбачить и неожиданно наткнулся в прибрежных кустах на сидевшего с удочкой Берию. Тот показал ему кулак: тише, рыбу распугаешь. Жора устроился неподалеку и вытащил подряд три небольшие рыбины. А у Лаврентия Павловича, как назло, не клевало. Он подлетел к Жоре с перекошенным от злобы лицом: “Еще одну вытащишь – застрелю!”
Монастырев знал: у Берии всегда при себе пистолет и он запросто может исполнить угрозу. Сразу же уйти было боязно – вдруг Берия воспримет как вызов… И стал Жора забрасывать удочку с пустым, без червя, крючком, моля бога, чтобы какая-нибудь рыбеха сдуру не заглотнула его.
Прошла неделя, другая, Берия не уезжал. И все так же гордо и независимо шатались без дела охранники, напоминавшие горных орлов, хищно высматривающих добычу.
Ким поменялся дежурством с одним из приятелей – день на ночь: тому позарез нужно было уехать в Сухуми по личным делам и он попросил выручить его. Поспав три часа перед закатом, Ким бодро вскочил, умылся, поскоблил щеки опасным лезвием, выгладил форму.
– Начищаешь перышки, точно в гости собираешься, – шутливо поддел его Сергей.
– А может, так оно и есть, – сверкнул белозубой улыбкой Ким и принялся расчесывать у зеркала черную, с легкой проседью, стриженную под полубокс шевелюру. – Красив как бог, – сказал он про себя и удовлетворенно цокнул языком. – Надо, Сережа, быть ко всему готовым: то ли тебя куда позовут, то ли сам гостей примешь, званых и незваных.
Что-то в поведении Кима не нравилось сегодня Сергею, проглядывала в его жестах и голосе нарочитость, излишняя веселая беспечность, с помощью которой иногда пытаются скрыть потаенное беспокойство, волнение.
Отдежуривший днем Сергей залег на койку и начал вспоминать Москву. Мать он не видел с начала мая. Он начинал скучать по дому, по городу; бесконечное солнце, пение цикад, терпкие южные запахи стали привычными, потеряли изначальную новизну и привлекательность и в силу этого стали надоедать. В Москве сейчас, наверное, дождь, пузырятся и шипят, как нарзан, лужи, пахнет бензином, зажглись уличные фонари, люди в плащах бегут в кино, театры, а здесь его распорядок расписан на много дней вперед и все одно и то же: принял дежурство, открыл ворота, закрыл ворота, отбыл в сопровождение, сдал дежурство, трижды в неделю учебная стрельба, самбо и каждый час, каждую минуту постоянная готовность отразить теракт.
Надо быть всегда начеку. Он, Лучковский, знает, что иностранные разведки постоянно забрасывают к нам шпионов, диверсантов. Да и своих вредителей хватает. Он, разумеется, читал и про безродных космополитов, проявляющих низкопоклонство перед загнивающим Западом, лжеученых, выдумавших какие-то хромосомы, людей, в том числе писателей, принижающих все национальное, бравирующих иностранными словечками, хотя есть прекрасные русские слова. Вот и недавно Сергей прочел в “Правде”:
“Партийная общественность разоблачила антипатриотическую группу критиков-космополитов, культивировавших рабское преклонение перед буржуазной культурой Запада, систематически принижавших роль и достижения советской литературы. Борьба против группы критиков-космополитов вновь и вновь напомнила литераторам о необходимости повышения бдительности в вопросах идеологии”.
Да, всякие есть людишки, но над ними над всеми, как седой мудрый Казбек, возвышается Сталин, и нет силы, способной помешать грандиозным планам и свершениям ведомой твердой рукой страны.
Так размышлял Сергей, пребывая в том отрешенном состоянии, когда ничто не отвлекало его от дум.
А ночью он был поднят по тревоге.
Мигом домчавшись на “виллисе” до ворот дачи, Сергей смекнул: случилось нечто из ряда вон. Он явственно слышал несколько глухих выстрелов. Носика, сдается, оттеснили, предоставили вторую роль, распоряжались двое из окружения Берии, говорившие по-русски с сильным акцентом.
Перемигиваясь фонариками, беспрестанно окликая кого-то, охрана крутилась вокруг дачи. Царили тут бестолковщина и суета. Взяв бразды правления, те двое разбили охранников на пятерки, назначили старших, и только тут объявили о происшедшем: на товарища Сталина совершена попытка покушения.
У Сергея перехватило дыхание. Покушение? Те двое успокаивали: товарищ Сталин жив, здоров и невредим. Внутренняя охрана смогла спугнуть преступников, посягнувших на самое святое, что есть у советского народа. Сколько их? Неизвестно, видели троих. Сначала прочесать территорию дачи, если не найдете – всю округу. Пароль – “Ищи ветра в поле” – называть без малейшего промедления, иначе в темноте друг друга поубиваете. Вперед!..
Сергей углубился в заросли, светя перед собой фонариком. Лучи выхватывали траву, ветки, кусты, сучья деревьев, за каждым стволом мерещился прятавшийся. Правой рукой, державшей пистолет, Сергей разводил ветви, больно стегавшие по лбу и глазам, левой водил фонариком. Его била дрожь нетерпения: вот-вот он настигнет тех или хотя бы того, кто посмел посягнуть, и тогда расправится с ним, как учили на тренировках по самбо, или ударит ножом, или выстрелит в убегающую спину и непременно попадет.
Но никого не было видно, ни на тропках и дорожках, ни в кустах, ни за деревьями.
Пятерки кинулись в лес, примыкавший к даче. Вминая сапогами валежник и мох, с хрустом, как дикий зверь, продираясь сквозь чащобу, Сергей углублялся в глухое, мрачное пространство. Прежде ночью он по лесу не шастал, лишь однажды в детстве у бабки – отцовой матери в деревне на Оке – ходил по ягоды и заблудился. Тогда лишь к утру, по колено в росе, стуча зубами, выбрался к деревне, натерпевшись страху. Тот детский страх жил в нем долго, отзываясь в снах то заволосатевшей мордой лешего, то какими-то скелетами в виде сухих лесин, то кошмарным уханьем филина… Давно все минуло, кануло, но в эти минуты Сергею нет-нет и становилось не по себе. Особенно когда в отдалении отчетливо прозвучала дробь, похожая на автоматную очередь.
Не заметив торчащий сук, он сильно оцарапал висок, в сапоги набилась труха, больно коловшая через портянки, переобувание требовало остановки, а останавливаться он не хотел.
Справа послышался шелест. Мигом погасив фонарик, Сергей замер и напряг слух. Шелест усиливался, кто-то определенно двигался ему наперерез. Сергей отступил за дерево и стал выжидать. Переложив пистолет в левую руку, достал из-за пояса нож из чехла, обнажил сталь.
Треск и тяжелое сопение раздавались уже метрах в пяти от него. Сергей явственно различал человеческую фигуру, идущую без опаски, не ожидая засады. Тем лучше, сказал он себе, изготовился перед прыжком и выкрикнул почему-то осиплым, севшим голосом:
– Пароль!
– А… что… – человек конвульсивно дернулся и отпрянул.
В этот миг Сергей прыгнул на него и хрустко ударил рукояткой пистолета. Удар пришелся в голову, человек охнул, обмяк и повалился. Коленом Сергей вдавил шею упавшего в мох и принялся заламывать руки. Тот очухался, застонал, попробовал крутнуть головой, выплевывая набившийся в рот мох, и явственно промычал:
– Ищи ветра…
Сергей ослабил нажим, перевернул мычавшего на спину, посветил фонариком: перед ним лежал Витек Маврин, его одногодок, тоже из наружной охраны.
– Ты чего на пароль не отозвался? – зло, еще не остыв, бросил Сергей.
Маврин попытался приподняться, Сергей почувствовал липкую влагу на пальцах.
— Я спрашиваю: почему молчал, не отзывался? – без прежнего напора, уже извиняющимся, растерянным тоном переспросил Сергей.
— Да сам не пойму, – прошептал Витек. – Ну ты и долбанул, о-о-о…
Через час они вышли на дорогу, ведущую к даче. Витек еле плелся, Сергей хотел было нести его на себе, тот отказался.
Договорились никому ничего не рассказывать: мол, оступился Витек, падая, напоролся на сук и покорябался, а Сергей просто помог ему.
– Отбой, ребята, — разъяснили им обстановку у ворот дачи. – Удрали, гады, в горы, сваны их преследуют по пятам. Нашего ранили.
– Ранили, кого?
– Вроде этого, Цыгана, Красноперова…
Утром на общем инструктаже слово держал сам Берия. Обычно гладко выбритая, точно отполированная, туго натянутая, как барабан, розовая лоснящаяся кожа лица его выглядела серой, тусклой, жеваной. Мешки под глазами, усиливаемые стеклами очков, говорили о тяжелой бессонной ночи. Коротко остановившись на том, что уже было известно Сергею, он добавил:
– О чем говорит случившееся? О том, что враг затаился, выжидает, пытается использовать в своих коварных целях наше благодушие и беспечность. Кое-кто считает, что после разгрома фашизма можно почивать на лаврах и что наличие внутренних врагов – досужая выдумка. Американский империализм, имеющий на вооружении атомную бомбу, – вот наш главный противник, а на все остальное можно не обращать внимание, так считает кое-кто. Преступное заблуждение! Враги были и есть, они лишь изменили тактику, замаскировались, ждут удобного часа, чтобы воткнуть кинжал в самое сердце страны. Под сердцем я подразумеваю товарища Сталина, – тут Берия сделал многозначительную паузу и пристально посмотрел на присутствующих. – Я показал сегодня утром Иосифу Виссарионовичу кровавый след. Он тянется почти от дорожки, которая ведет в комнату вождя. Мы, к счастью, пресекли замыслы преступников. Но страшно подумать, что могло бы произойти, если бы им удалось подобраться к окну, за которым спал товарищ Сталин. Как могли они проникнуть в расположение правительственной дачи? Где была наружная охрана? Чем занималась? Мы еще разберемся в этом!
После инструктажа Сергей наконец выяснил: Ким действительно ранен и находится в лазарете. К нему не пускают. Прошел слух, что срочно вызвали хирурга из Кремлевской больницы, который будет делать ему операцию по извлечению пули, засевшей в плече, и что Кима навестил сам Хозяин.
Хирург и впрямь появился на следующий день – Сергей видел, как его встречали и вели в лазарет.
Только через неделю Красноперова разрешили навещать. Сергей попал к нему в числе первых. Ким полулежал-полусидел, опираясь спиной на подоткнутую подушку. Левая рука его была примотана бинтами к туловищу, правой он отщипывал с тарелки виноградины и бросал в рот. Увидев Сергея, улыбнулся, подмигнул ему и неуловимо превратился в того самого шалого, озорного капитана, который для всех был своим парнем. Но лишь на мгновение. Опять, как и тогда, при виде приятеля, охорашивающегося перед выходом на очередное дежурство, Сергея кольнула нарочитая, бесшабашная веселость Красноперова. А глаза у него были сейчас притухшие, озабоченно-встревоженные, словно Ким решил изнурявшую его непосильную задачу.
– Бери стул, садись, лопай виноград, мне одному не одолеть. Рад видеть тебя живым и невредимым. А мне не повезло.
Ким произнес последнюю часть фразы без сожаления, словно мимоходом. Сергей воспринял это как лишнее подтверждение душевной стойкости Красноперова: просто и открыто, без фиглей-миглей – не повезло, и все.
Понравилось, что и его, Лучковского, причисляет к боевым рисковым ребятам, таким, как он сам; знает наверняка, что Сергей участвовал в погоне, следовательно, тоже мог схлопотать девять граммов свинца, но не схлопотал, и потому и впрямь приятно Киму видеть приятеля живым и невредимым.
– Видишь, как оно в жизни нашей… Поменялся дежурством и попал в переплет, – выразил сочувствие Сергей. – Болит? – кивком указал он на забинтованное плечо.
– Немного. Даст бог, заживет. Хирург молодчик, меньше чем за час со мной управился, пулю извлек. Знаешь, она немецкого образца, видать, трофейным оружием воспользовались.
– Ты видел стрелявшего?
– Видел… Скажешь тоже. Если б видел, он бы от меня живым не ушел. То-то и оно, что я их спугнул. Услышал шорохи и вроде как голоса, сделал несколько шагов по дорожке, те подумали – засекли их – и бежать. Кто, что – не видно, только по кустам треск. Я за ними: стой, стрелять буду! Они и пальнули. Я боли не почувствовал, вслед им обойму выпустил.
Помолчали. Ким заставил Сергея доесть виноград, взял папироску, покатал ее в уголках рта, вынул спичку, ловко чиркнул о серу коробка и прикурил. Все это проделал одной рукой, быстро и умело, будто долго тренировался.
– Знаешь, кто меня навестил? Не поверишь. Товарищ Сталин. Сидел вот так, как ты, расспрашивал о самочувствии, шутил, а у самого глаза невеселые. Подарил бутылку своего любимого розового ликера, расска зал, как он делается. Готовит ему этот ликер врач-грузин. Специально рано утром в определенные дни собирает лепестки роз, и только тогда, когда на них падет роса. Потом в бутылки их, заливает спиртовым раствором, добавляет какие-то вещества, товарищ Сталин называл, я забыл, настаивает и выдерживает несколько месяцев. Получается напиток, полезный для здоровья. Давай чекалдыкнем.
Ким достал из тумбочки бутылку из темного стекла без наклейки, зубами вырвал торчавшую пробку и плеснул содержимое в стаканы. По палате распространился дивный аромат.
– Чуешь, благоухание какое? А вкус…
Он отпил из стакана и блаженно зажмурился. Сергей последовал его примеру. Вкус у непереслащенного ликера и впрямь был непривычный, ни на что не похожий, с тончайшими оттенками, отдаленно напоминавший варенье из лепестков роз, которое однажды принес из дома опекавший Сергея директор санатория в Мацесте, но лишь отдаленно.
– В лечебных целях, – сверкнул зубами Ким и налил еще.
Сергей посидел с полчаса и попрощался.
Снова навестил его через четыре дня, в воскресенье, после дежурства. Ким почему-то хандрил, выглядел вялым и сонным, хотя рана, по его словам, заживала быстро. Похоже, Кима что-то угнетало, но поди узнай у него.
Сергей попытался взбодрить приятеля и повел его в лес подышать настоянным на хвое воздухом. Ким плелся сзади, глядя на носки сапог, невпопад отвечал на вопросы. Единственно встрепенулся, когда Сергей заговорил о покушении на Хозяина: кто же все-таки осмелился на такое? Шпион, диверсант или свой, внутренний враг? Ким при этих словах завертел головой в разные стороны, точно хотел убедиться – за ними никто не следит, – и затем странно, как бы даже обидно хмыкнул.
Чего я такого сказал? – недоумевал Лучковский, а Ким вдруг оживился, очнулся от спячки, словно только и ждал упоминания о недавней тревожной ночи, стоившей ему пули в плечо.
– Вот и я мерекаю, кто бы это мог быть, свои или чужие? – зашептал Красноперов заговорщически. – Когда их в кустах преследовал, запнулся, чуть не упал и впереди явственно русскую речь услышал, правда, с акцентом: “Не стреляй, убить можешь, пускай он на открытый участок выбежит…” Удиравшие, они между собой переговаривались обо мне. Вот я и думаю: с какой такой стати им жалеть меня? Я на них, гадов, обойму с радостью истратил, жаль, не попал. Если честно, Серега, я, еще уходя на дежурство, неладное чуял, что, не пойму сам, а вот неспокойно на душе, муторно было.
– Да, чудно́ это, – согласился Сергей. Горячечный шепот приятеля ударил его тугой волной и посеял встревоженность.
– И потом, акцент меня смутил, грузинский. Я его ни с каким другим не спутаю. Как прикажешь все это понимать? – Ким взял здоровой рукой Сергея за локоть и остановил. На лбу Красноперова выступила испарина, он блуждал глазами по лицу Сергея, будучи явно не в себе.
– А ты сам что думаешь?
– Я-то? Я никак не думаю, вернее, стараюсь не думать, иначе впору с ума сойти. Нелепость, чушь, но если призадуматься… Не могло же мне померещиться там, в кустах… Впрочем, не нашего ума дело. Хватит об этом. И по-дружески прошу: ни одной живой душе ни гугу. Ты понял? – и он сильно сдавил пальцами-клещами его локоть.
Проводив Кима в лазарет, Сергей вернулся в свою комнату, где стояла пустая застеленная кровать приятеля, и начал неприкаянно ходить из угла в угол. Только что услышанное вползло в него тяжелым дурманом, замутившим ясность мыслей. Он пытался выстроить в логическую цепочку то, чем поделился Ким, что он при этом подразумевал, мысли путались и рвались, как нитки в руках неумелой швеи, он заставлял себя успокоиться, холодным умом расчетливо во всем разобраться и никак не мог. Наконец взял себя в руки, прослушал в памяти, как пластинку, произнесенное приятелем и потихоньку стал раскладывать по полочкам. И чем меньше оставалось свободных полочек, тем нагляднее и убедительнее составлялась картина покушения, которого, вполне вероятно, на самом деле и не было, которое искусно разыграли, отведя каждому действию и поступку определенную роль, место, очередность: и приезду Берии, и поменявшемуся дежурством Красноперову, и его ранению, и кровавому следу на дорожке, усыпанной рыжими сосновыми иглами, и многому другому, незримо присутствовавшему в ту ночь, о чем Сергей мог только догадываться. Но зачем, почему, с какой целью? – пытал себя вопросами Сергей.
Постепенно вызревало открытие, в которое до конца боялся поверить: кому-то в ы г о д н о иметь влияние на Сталина, стращать несуществующими кознями, играя на его мнительности и подозрительности. И даже охрана вовлечена в постыдную затею. А почему, собственно, постыдную? У того же Носика свой резон: показать, что охрана не дремлет, даром хлеб не ест, надежно охраняет вождя. Для этого надобна с и т у а ц и я, коль ее нет, ее разыгрывают, как спектакль…
С той поры что-то сломалось в Сергее. Он не уставал дивиться на внезапно открытую в себе самом способность к лицедейству. Откуда что взялось. Выполняя приказания, улыбаясь сослуживцам, обсуждая с ними всякую всячину, он теперь постоянно ощущал внутри наличие второго человека, исподволь, скрыто ведущего неусыпное наблюдение за тем, первым, в определенный момент нажимающего на нужные кнопки, подающие соответствующие команды: состроить гримасу преувеличенного внимания, промолчать, что-то произнести, громко засмеяться, нахмуриться. Ни разу больше ни с кем из окружавших его не чувствовал он себя душой вольготно. Даже с Кимом.
…Около половины седьмого утра первого мая дежурный по Главному управлению охраны принял экстренное сообщение одного из райотделов госбезопасности. На ноги немедленно были подняты все оперативники управления. А произошло вот что. Ранним утром в отделение милиции неподалеку от стадиона “Динамо” прибежала встрепанная, ополоумевшая гражданка и, заикаясь от волнения, сообщила следующее: ее муж, ответственный работник одного из оборонных министерств, достал из стола именной пистолет, подаренный ему когда-то Ворошиловым, и отправился на демонстрацию с намерением убить Берию. У него имеется специальный пропуск на Красную площадь, поэтому к трибуне Мавзолея он может подобраться весьма близко. “Откуда вам известно о намерении убить товарища Берию?” – спросили женщину в милиции. “Он ненавидит его, о чем неоднократно говорил мне, считает повинным во многих смертях, убежден, что он опутал Сталина”, – ответствовала женщина, находясь, очевидно, в аффекте и потому не боясь открыто произнести рискованные слова. Сегодня утром из стола исчез пистолет, она подумала – неспроста и побежала сигнализировать. Больше из невменяемой гражданки вытянуть ничего не удалось.
Милиция тут же сообщила в райотдел госбезопасности, и колесо завертелось. В квартире ответственного работника немедля провели обыск, нашли его фотографии анфас и в профиль, тут же размножили и раздали оперативникам.
Добрая сотня их тут же внедрилась в толпы демонстрантов, собиравшихся в колонны в отдалении от площади. Сверхжесткий контроль был установлен на подходах к самой площади, куда начинали стекаться приглашенные на военный парад.
Сергея поставили дежурить возле тыльной стороны Исторического музея, наискосок от Гранд-отеля. Вообще-то его место было возле Мавзолея, в непосредственной близости от членов правительства, – но так накануне распорядилось начальство. Сегодня же его и нескольких других наиболее опытных оперативников выдвинули исходя из важности момента как бы на острие поиска.
В ушах у него звучала фраза генерала – замначальника Главного управления охраны, которой тот напутствовал оперативников: “Кто поймает, тому орден”. Разве дело в награде… Это его, Сергея, сегодняшняя р а б о т а, и, как всякую работу, ее надо выполнять на совесть.
Приглашенные шли не спеша, по одному или парами, – до начала военного парада оставалось более получаса. Сергей вглядывался в них, видя перед собой одно-единственное лицо с характерной приметой – острым, хищным носом. Таким незнакомец был запечатлен на фотографии, лежащей сейчас в боковом кармане пиджака Лучковского и на которую Сергей, незаметно вынимая, нет-нет и поглядывал. Среди гостей его пока не было – Сергей мог дать голову на отсечение.
Люди прибывали, теперь они двигались мимо него вверх по брусчатке чуть ли не сплошным потоком. Шляпы и фуражки создавали дополнительные трудности, мешали с ходу определить: похож или не похож гость на того, кого надобно найти в толпе. Сергей действовал по своей методике: явно непохожих он мысленно отбрасывал, не принимал в расчет; имевших хоть некоторое сходство вел немигающим недоверчивым взглядом до того момента, пока внутренне не убеждался – тянет пустышку. К иным подходил и просил предъявить пропуска, хотя знал: документы у них должны были проверить еще на дальнем подходе к площади.
До того момента, когда из ворот Спасской башни выедет командующий парадом маршал Говоров, оставалось меньше десяти минут. Возникший как из-под земли взмыленный, непохожий на себя Красноперов мимоходом бросил: “Ну, что у тебя?” – выругался, нервно дернул щекой (раньше Сергей не замечал у него тика) и побежал дальше.
И тут Сергей у в и д е л его. Впрочем, “увидел” не вполне соответствовало внезапному толчку и приливу крови к голове, заставившему Лучковского замереть и перекрыть дыхание. Это было предчувствие, внезапное и необманчивое озарение. Он еще не подцепил его взглядом-крючком, но уже осознал – это произойдет сейчас, в следующее мгновение. Внутренне готовый к этому, Сергей прорезал убыстривших шаг, опаздывающих и почти бегущих гостей невидимым направленным лучом и сфокусировал его на высоком носатом мужчине в кофейного отлива пыльнике и примятой, напоминающей пирожок шляпе. Он двинулся к нему поперек потока, прорываясь сквозь вязкую разгоряченную людскую массу. Его негодующе толкали, отдавливали ноги, он мешал всем спешившим, течение отбрасывало его, но он упрямо выгребал на стремнину и неумолимо сближался с кофейным пыльником, мелькавшим у него перед глазами.
Оказавшись в полуметре и подстроившись под широкий шаг-полубег носатого, Сергей оттиснул плечом мешавшего ему соседнего человека, кажется, известного артиста, и, не обращая внимания на сопение и нелестную фразу в свой адрес, словно невзначай обнял носатого, прижал его руки к туловищу и как бы повис на нем. Носатый забултыхался, попытался освободиться.
– Что, что такое, отпустите меня! – выкрикнул он.
– Спокойно, не дергаться, госбезопасность, – сквозь сжатые зубы приказал Сергей, продолжая висеть на носатом и правой рукой пытаясь ощупать карман пыльника.
– Да пустите же, какое вы имеете право?! – верещал носатый, не расслышав произнесенного Лучковским слова.
Сергей сделал резкое движение вбок и, споткнувшись, тем не менее удержался на ногах, не выпустив носатого. Наконец ему удалось выпихнуть того на край. Толпа обтекала их, как течение речной камень-валун, и устремлялась дальше к площади. А Сергей, не давая носатому очухаться и высвободить руки, шептал ему в ухо:
– Где пистолет?
– Какой пистолет, вы с ума сошли! – ерепенился тот.
На помощь примчались двое оперативников, втроем они скрутили его и оттащили в сторону, на газон. Сергей мигом обыскал и не нашел оружия. Вытащив из кармана пыльника пропуск, убедился: интуиция не подвела — тот самый, кого они искали все это суматошное утро.
– Где оружие? – не в силах совладать с собой, сдавил он горло носатого.
Тот захрипел, забился.
– Вы хотели совершить покушение на Берию! – не отпускал горло Сергей, потерявший над собой контроль. Что-то звериное вселилось в него.
– Нашли! – крикнули сбоку. Их окружили, Сергей разжал онемевшие пальцы и выпустил горло человека в пыльнике. Тот сразу обмяк и повалился бы, если бы его не удержали.
– Ну Серега, молодчик! – радостно тискал его примчавшийся Ким.
А в Лучковском все бурлило и клокотало. Он безотчетно ненавидел испортившего праздничное утро носатого, не в силах унять неостывшую страсть гончего пса, дорвавшегося до добычи и взятого затем охотником на поводок. Его била дрожь, он не мог найти себе места и отвечал на поздравления сводившей скулы гримасой.
Пойманного увезли на Лубянку. В середине дня Ким сообщил: “Долго запирался, не сознавался в злом умысле, да и прямая улика отсутствовала – пистолет. Оружие обнаружили в потайном отделении книжного шкафа, который при первом обыске впопыхах прозевали. Жена вдруг заблажила: дескать, померещилось ей, в милицию бросилась себя не помня, мужа якобы спасти хотела. Дура набитая, сама же и закопала его. Поднажали наши, она и дала прежние показания, те, что утром, про разговорчики мужнины относительно Лаврентия Павловича. А потом и муженек раскололся. Тебе, Серега, повышение в звании светит и кое-что еще. В общем, молодчик”.
Ближе к вечеру, после демонстрации, Сергей, как договорились, навестил Соню. Она жила у Покровских ворот в шестиэтажном доме, внизу которого помещалась аптека. Они виделись все чаще, однако он не раскрывал ей место своей службы, всячески уходил от вопросов, намекая, что работает в секретной организации и не имеет права распространгяться на сей счет. Соня почему-то уверовала, что ее новый знакомый – физик-ядерщик или нечто подобное.
Путь от Красной площади занимал от силы двадцать минут: по улице Куйбышева, мимо памятника героям Плевны, далее по Маросейке в направлении Армянского переулка. Сергей шел больше часа. Он сторонился высыпавших на улицы гуляющих в цветастых платьях и белых рубашках, шустрой детворы с флажками и воздушными шарами, невидяще пялился в витрины магазинов, купил любимое свое мороженое крем-брюле и съел, не ощутив вкуса. Внутри него что-то и впрямь выкипело, оставив на дне полынный осадок. Весь пережитый сегодня бестолково-нервный день разъялся на составные, мельтешил какими-то обрывками, лоскутками, поселяя в душе сумрак и пустоту.
Тревожило и мучило сообщение Кима, которое Сергей без конца повторял. Выходит, носатый не имел намерения покушаться на жизнь Берии, коль оставил оружие дома. Раз так, обвинение против него строится исключительно на показаниях малахольной бабы. Однако этого окажется вполне достаточно, чтобы… Сергей не хотел домысливать дальнейшее.
На моем месте мог оказаться любой из наших, пытался вывести себя из сумеречного состояния. Ведь мы выполняли приказ. Ну, мне повезло (невесело усмехнулся), сцапал носатого я, однако шансы добраться до правительственной трибуны равнялись у него нулю, он был обречен с того момента, как жена примчалась в милицию. И довольно изводить себя, получается, будто я чуть ли не невиновного… А разговорчики по поводу Берии – это же наверняка не враки, за них по закону надо нести ответственность.
…До отъезда Лучковского из пансионата оставалась неделя, а октябрьское тепло держалось по-прежнему стойко. Делая на балконе зарядку, он вожделенно глядел на близкие горы, не затянутые туманной дымкой, что предвещало солнечную погоду.
С Шаховым они теперь взяли за правило обязательно ходить на море перед сном. Утреннее и дневное купание ни в какое сравнение не шло с ночным. На берегу между солярием и причалом их было только двое. Они раздевались донага, входили в умиротворенную, засыпающую воду и, отплыв от берега, погружались в фосфоресцирующее пространство. Собственно, светились они сами, а море оставалось деготно-черным. Их облепляли молочно-белые пузырьки, точно вырвавшиеся из гигантской бутылки с минералкой, но в отличие от тех не шипели, а беззвучно превращались в мелкие летучие искорки. Луны не было, помаргивали звезды, плыть приходилось в кромешной беспредельной тьме, и рождался немой холодящий восторг.
В последние дни они все больше находили друг в друге то необходимое, что питает раствор, цементирующий зарождающуюся мужскую дружбу. Сергей Степанович порой даже забывал, кто есть Шахов и какая немаловажная причина толкнула сойтись с ним, а вспоминая, вновь чувствовал неодолимую, жгучую потребность наконец-то открыться ему, чтобы тем самым снять последнюю, мешавшую полному сближению преграду. Будь что будет, но это мой долг, говорил он себе, выжидая удобный момент. Ему мнилось, что он найдет у Георгия Петровича понимание и, само собой разумеется, полное прощение, хотя самое важное уже давным-давно свершилось: он, Лучковский, сам круто повернул руль своей судьбы. И не вымаливает он у Шахова отпущение греха – нет в том надобности, а как бы облегчает душу.
Он пригласил Шахова к себе и показал ему написанную вчерне статью об истории развития идей крестьянской кооперации. Проблемой этой занимался последние лет пятнадцать, кое-что смог опубликовать, шло со скрипом, натугой, наталкивалось на сопротивление разных лиц и ведомств, и прежде всего группы ученых, имевших на сей счет свой укоренившийся, закоснелый взгляд. Статья предназначалась для сборника, выпускавшегося издательством “Наука”. В ней Сергей Степанович отстаивал дорогие ему понятия, извращенные в эпоху Сталина, державшиеся под спудом и в последующие годы и только недавно проторившие себе дорогу – времена изменились, и многое теперь удавалось сказать в полный голос.
Георгий Петрович статью одобрил, сделав несколько замечаний по стилю, которые Лучковский принял. Одну цитату Шахов переписал и громко, с выражением прочитал, отдавая тем самым должное точности суждения профессора Чаянова, осужденного еще в начале тридцатых по сфабрикованному делу “Трудовой крестьянской партии” и только недавно реабилитированного.
“Все будущее нашей Родины, вся прочность нашей демократической государственности будет зависеть от энергичного и быстрого подъема нашего земледелия, от того, насколько удастся нам вырастить два колоса там, где теперь растет один”.
Еще раз перечитав статью, наткнулся на фамилию Венжера, начал расспрашивать о нем, делал пометы в блокноте. Адресат последних прижизненных писем Сталина, осмелившийся вступить в полемику с вождем, явно заинтересовал Шахова. В особенности то, что он жив и в свои девяносто сохранил ясный ум и прекрасную память.
– Приеду в Москву и попробую написать о нем. Разумеется, со ссылкой на человека, который навел на его след. Не возражаешь? – с некоторых пор они перешли на “ты”.
– Тогда дарю эпизод из биографии Венжера. В статье об этом ни слова. — Сергей Степанович сел на складной деревянный стульчик напротив Шахова, любовавшегося на балконе закатом. – Как-то обедаю у Владимира Григорьевича вместе с несколькими его учениками, вернее, ученицами, докторами наук, боготворящими Венжера. Вспоминает старик известное совещание в ЦК у Хрущева по поводу передачи техники колхозам, как раз о том, о чем Венжер – сторонник такой назревшей меры спорил со Сталиным. На совещании он выступил с главным сорокаминутным сообщением. Хрущев не перебивал его, не отпускал, по своему обыкновению, реплик и потом крепко хвалил. В общем, попал старик в дугу. В перерыве все его поздравляют, и, наверное, каждый с завистью думает про себя: “Ну, теперь Венжер в гору пойдет”. А после перерыва сцепился Владимир Григорьевич с Хрущевым, уличил его в неправильной трактовке его, Венжера, писем Сталину и здорово Никиту разозлил. Публика тут же переориентировалась и начала долбать Венжера.
– Любопытно. И что же дальше?
– Дальше опять попал старик в опалу. Ему не привыкать. Однако не в этом суть. Поведал он нам эту историю за обедом, одна из учениц возьми и скажи: “Владимир Григорьевич, зачем вы с Хрущевым в спор ввязались? Промолчали бы и, глядишь, наверняка получили солидное назначение. Ему в тот момент нужны были союзники на высоких постах”. Чую: подначивает она старика, шутливо так, нежно, но подначивает. Тот, видно, не усек, принял всерьез и обиделся: “То есть как, Тамарочка, промолчать? Он же ересь говорил, будто бы я в письмах Сталину призывал ликвидировать МТС. Я предлагал начать продажу тракторов и прочей техники колхозам, а судьбы МТС не касался, решать ее – не дело науки”. – “Да бог с ним, с Хрущевым. Он многого не понимал, – продолжает та в прежнем духе. — Вам-то зачем было кидаться на него, уличать в ошибках? О себе бы подумали. Заняли бы положение в экономической науке, смогли бы активно влиять на дела наши аграрные. Гибкость следовало проявить”, – а сама улыбается глазами. Как попер на нее старик! Разве этому я вас учил? Гибкость уместна в обыденной жизни, в науке же главенствуют принципы, изменять им – значит изменять себе, и далее в том же духе.
Шахов в задумчивости потер переносицу и что-то опять стал записывать быстрым почерком.
– Обстоятельства бывают одинаковыми, gоступки – разными, – оторвался он от блокнота и как-то особенно посмотрел на Лучковского. – И до, и после войны находились несгибаемые люди, тот же ваш Венжер. Ведали, понимали, чем может обернуться несогласие, и все равно оставались самими собой. А ты тогда чем занимался? – сделал неожиданный переход.
Лучковский не понял.
– В начале пятидесятых, когда Венжер Сталину писал, – пояснил Шахов.
– Служил, – коротко ответил Сергей Степанович.
– В армии, видимо, тоже чувствовалось, – по-своему понял «службу» Шахов. – Кругом только и делали, что боролись с ротозейством, вредительством, повышали политическую бдительность. Я мальчишкой был, а хорошо помню. И ведь находили идеологическое оправдание: оказывается, победив в войне и наладив мирную жизнь, советские люди заразились беспечностью и благодушием. Не мог Сталин позволить народу-победителю свободно дышать, опять стал пугать разными жупелами, происками врагов, внешних и внутренних. И тут же дело врачей состряпалось. Убийцы в белых халатах, террористическая группа, завербованная иностранными разведками…
Шахов продолжал говорить, а Сергея Степановича словно обожгло. Неведомая сила решительно и властно поволокла его назад, в ту пору, когда, вопреки всему, он женился на еврейке и ушел из органов (точнее, был оттуда изгнан), когда прошелестел по Москве слух о кремлевских профессорах-убийцах, изобличенных врачом-патриоткой Лидией Тимашук. Слух оставался таковым до опубликования в газетах специального сообщения. Теперь он стал реальностью. У всех на устах были фамилии врачей. Лучковский моментально запомнил их – некоторых видел и даже сопровождал, о некоторых слышал, работая в охране: Вовси, Коган, Фельдман, Этингер, Гринштейн, Шерешевский… Назывались и другие – Василенко, Виноградов, Егоров, но прилюдно – в очередях, в автобусах и метро, цехах и лабораториях, всюду и везде – чаще всего повторялись со зловещим окрасом именно те, первые.
В глазах Сергея Степановича стоял заголовок того сообщения: “Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей”. Соня возвращалась с работы зареванная. В поликлинике ей не давали прохода, тыкали газетой: “Все вы такие”. Кларе Семеновне, тоже медику, и того хуже – пригрозили увольнением. С тех пор как Лучковский распрощался со службой, отношения с тещей стали заметно лучше. Она уже не шарахалась, не забивалась в угол при его появлении. И все-таки ледок до конца не растаял, осталась в Кларе Семеновне некоторая подозрительность и недоверчивость.
Кремлевские врачи, писалось в газетах, натворили много черных дел. Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи Жданов и Щербаков. Преступники старались подорвать здоровье руководящих советских военных кадров…
– Сереженька, мне страшно, – шептала ночью Соня, прижимаясь к нему и пытаясь унять дрожь, – я не могу поверить. Это же знаменитые врачи, они не могли совершить такое.
Он пытался успокоить ее, не находя в себе сил с твердой убежденностью сказать “написана правда” или “это провокация”. Он запутывался в поисках аргументов за и против, спросить было не у кого, да и никто и не разрешил бы его сомнения. Он страдал из-за Сони, ходившей на работу в поликлинику как на пытку, ему было жалко Клару Семеновну, которую вскоре уволили. Соседи по квартире перестали с ними здороваться, а дебелая дама, та самая, прежде учтиво подзывавшая Сергея к телефону, когда ему звонили со службы, однажды замахнулась на Соню сковородкой.
– …Письма слали Тимашук пачками после того, как известно стало о награждении ее орденом Ленина, и какие письма, – вновь начал доходить до Сергея Степановича надтреснутый голос Шахова. – “Все – стар и млад, если бы было возможно иметь ваш портрет, поставили бы его на самое дорогое место в рамке, в семейном альбоме. А это значит – вы настоящая дочь своего народа, своей Родины”. Цитирую точно, совсем недавно просматривал подшивку тогдашних газет. Помнишь стихи школьников? “Правда” их обнародовала, заучил еще с тех пор: “Позор вам, общества обломки, за ваши черные дела, а славной русской патриотке на веки вечные — хвала!” На веки вечные… Это в феврале пятьдесят третьего, в апреле же, после смерти батьки усатого, обратный ход дали, выпустили врачей, сняли с них все обвинения, силой и издевательствами добытые. И орден у Лидии Феодосьевны отобрали.
Какое совпадение отчеств, ударило в голову Лучковскому, у Тимашук и Красноперова – он тоже Феодосьевич. Точно у сестры и брата. Почему вдруг вспомнил о Киме, сам понять не мог, но ведь вспомнил, и может, дело вовсе не в простом совпадении, в чем-то более серьезном. Внезапные мысли о Киме легли на какую-то близкую полочку как нужная для дела папочка с вырезками – в любой момент можно снять и раскрыть, а покуда Сергей Степанович слушал Шахова со все возрастающим интересом.
– В промежутке между этими месяцами меня из школы исключили. Утром шестого марта объявляют по радио о смерти горячо любимого вождя, траурная линейка, учителя рыдают, многие ребята носами хлюпают, кончилась линейка, вхожу в свой девятый «Б» и слышу: “Это вы, жиды, убили Сталина!” Один-единственный еврей был у нас – Аксельрод, тихий, безответный, я с ним дружил, на него и накинулся наш заводила Макарин. Не знаю, что со мной сделалось. Схватил чернильницу-непроливайку и в Макарина запустил. Пробил ему голову, кровь брызнула и чернила из непроливайки. Меня и турнули. Через месяц восстановили – я же круглый отличник был.
Георгий Петрович глубоко вздохнул, криво улыбнулся чему-то своему и потянулся за сигаретами.
– Между прочим, с той поры люто возненавидел я этого Макарина. Мы в соседних дворах жили, часто дрались, кровянку пускали, он мне, я – ему. Переехал в другой район, потерял Макарина из виду. Лет уж порядочно прошло, и вдруг встречаю его на Арбате возле известного гастронома. Идет навстречу – солидный, вальяжный, пузо торчит, с “дипломатом”. Я его сразу узнал и вперился в него. Наконец, и он меня заметил. Сближаемся, как на дуэли, глаз друг с друга не сводим. Он первый не выдержал, перешел на другую сторону, к МИДу. Детская ненависть – она либо сразу забывается, либо вечно помнится.
Утром накануне дня отъезда Лучковский, как всегда в семь часов, вышел на балкон делать зарядку и не увидел гор, сплошь затянутых белесой мутью. Погода начала меняться. Сразу похолодало, море с глухим стоном накатывало на галечный берег вал за валом, на листе жести у входа на пляж, куда мелом заносилась метеосводка, было помечено: «Волнение моря 4 б.».
Шахов предложил Сергею Степановичу отметить окончание отдыха. Перед обедом он сходил в деревню в трех километрах от пансионата, расспросил местных жителей и получил нужный адрес. Пожилой армянин вначале боязливо отнекивался, но все же поддался на уговоры и продал бутылку виноградной чачи. Чача делалась без всяких фокусов, не на продажу – для себя.
Стол Лучковский накрыл на своем балконе, выложив остатки привезенной из Москвы сухой колбасы, а также купленные в минувшее воскресенье на базаре сыр, помидоры, сладкий перец и ткемали. Георгий Петрович добавил виноград и инжир. Надев свитера, они уселись рядом, так, чтобы видеть море, с которым прощались кто знает на какой срок.
Сергей Степанович предложил тост за Кавказ, они выпили и долго наперебой, подводя итоги, делились впечатлениями отдыха: как повезло им с погодой, как уютно было жить в номерах, полезно и приятно купаться и гулять вдоль уреза воды под соленым ветром, говорили обо всем, споспешествовавшем (старинное, очень нравившееся ему словечко употребил Лучковский) прекрасному отпуску. Потом Сергей Степанович намекнул на значение случайных встреч, перерастающих в человеческую приязнь, а дальше, весьма вероятно, в дружбу. Шахов понимающе улыбался, кивал (получалось, точно дятел тукал клювом) – разумеется, он не против продолжения знакомства.
Ближе к вечеру они вышли на прогулку по берегу. Шторм стихал, пенистые валы уже не так яростно атаковывали пляж, загребая с собой зло шуршащие мелкие камешки. Они шли близко от накатывавших волн, кроссовки вязли в гальке и сером песке, ветер прочищал легкие, развеивал остатки хмеля.
Шахов пригибал голову, словно что-то высматривал под ногами, длинная синяя куртка вольно облегала его долговязую фигуру. Они миновали причал, бетонные сваи которого вода долбила особенно рьяно. Еще не начинало темнеть, тускнеющая пелена цвета берегового песка заволакивала пространство, навевала сиротливое неуютство. Гуляющих почти не было.
– Скажи, ты злопамятный, копишь обиду на людей или быстро отходишь? – неожиданно спросил Шахов.
– Черт его знает, – недоуменно дернул плечами Сергей Степанович. – Вообще-то я человек мирный, врагов вроде не имею.
– А у меня врагов хватает, и я зло помню. Конечно, и добро тоже. Характер у меня такой: себя и других пытаюсь судить по максимуму. Оттого, наверное, слыву неуживчивым.
– Я, признаться, не заметил, – улыбнулся Лучковский.
– Ну, мы недавно познакомились, друг о друге мало чего знаем. Притом на отдыхе все по-иному.
“Если бы ты сейчас услышал то, что давно хочу тебе высказать, как бы повел себя?” – внезапно подумал Сергей Степанович и обопнулся. В конце концов возьму да и открою карты, озарился было решимостью, но отваги хватило ненадолго, опять кто-то невидимый помешал, застопорил. И все-таки некое обстоятельство не давало ему сегодня молчать, требовало выхода.
– Однажды, не помню где, кажется, у Солженицына, вычитал рассуждение о пороговой величине (изнутри Сергея Степановича подталкивало: говори, говори, быстрее, быстрее). Взять, к примеру, кислород: охлаждай его, сжимай давлением – сопротивляется газ, не сдается. Но дойдет температура до минус ста с лишним, и превратится он в жидкость. Перейдет пороговую величину. Так и человек: мечется всю жизнь между добром и злом, однако, пока не переступил нравственный порог, остается человеком. Стоит же совершить ему подлость, как незримо переходит он порог, и все, нет его, ушел из человечества, быть может, безвозвратно. Бьется потом, мучается, страдает – и тщетно, сам себя из разряда людей вычеркнул, вне закона совести поставил.
– Великолепная мысль, – без задержки отозвался Шахов.
– Однако во всем ли и до конца ли справедливая?! – воскликнул Лучковский. – Представь: один-единственный раз оступился человек, пусть даже пакость совершил, потом одумался, исправился, вину свою многократно искупил, что же ему, всю оставшуюся жизнь казниться, маяться, человеком себя перестать считать? Не слишком ли велика кара?
– Это смотря по каким меркам оценивать.
Шахов увлек Сергея Степановича за собой. Они зашагали быстрее, подгоняемые внезапно, как бывает только на юге, сгустившейся темнотой и чем-то неразрешенным, непроясненным внутри себя. Берег сделал плавный изгиб, открылся вид на взгорок, где светил, полоская участок моря, прожектор пограничников. Они повернули обратно. Шахов натужно сопел, отдувался, ему явно было не по себе, но столь же стремительно продолжал движение.
– Ты вот пороговую величину упомянул. Я тебе тоже из физики, только про другое, – бросал он на ходу. – Есть несколько законов сохранения – массы, энергии, импульса, чего-то там еще. Но есть другой, человеческий закон – с о х р а н е н и я в и н ы. Вина за содеянное зло никуда не девается, сколько бы ни хотел повинный человек избыть ее. Он может заставить себя вытравить ее из души, выветрить из памяти, однако вина не исчезнет насовсем, не растворится в пространстве, а незаметно, тихо, потаенно будет жить; рано или поздно должен настать час, когда вина человека нежданно-негаданно возникнет перед ним неотступным, неотвратимым видением, и свершится суд его над самим собой, если только он не закоренелый подлец. Если бы не было так вековечно заведено промеж нас, легче легкого преодолевали бы мы всяческие пороги, не угрызая себя потом, не коря, а главное, не боясь расплаты. Запомни, – Шахов судорожно глотнул воздух, – никому не суждено остаться безнаказанным, сколь бы на это ни рассчитывал!
Зачем он говорит все это, м н е говорит? – захолонуло сердце у Лучковского. Хотел быть неузнанным, сам в последний момент открыться – и на́ тебе, каким-то невероятным образом расшифрован, распознан, иначе бы с какой стати его спутнику гвоздить такими верными страшными словами. Нет, не может быть, это все мои предположения и вымышленные страхи, на самом же деле ни о чем Шахов не догадывается. Просто выпаливает наболевшее, и откровенность его вызвана случаем, настроением, подходящей минутой и ничем иным, тут же начал успокаивать себя Сергей Степанович.
– Если б это было так… – грустно улыбаясь, покачал он головой, выказывая сомнение в том, что запальчиво выстреливал Шахов. – Один англичанин сказал: “История не вознаграждает тех, кто страдает, и не наказывает тех, кто творит зло…” Пусть нутро наше и восстает против этого, однако мы вынуждены смириться. Такова жизнь, Георгий Петрович.
– Я верую в справедливость, – уже изнеможенно, утратив пыл, как бы про себя произнес Шахов, – и никто и ничто не разубедит меня.
Лучковский не стал более возражать. Так молча они и завершили прогулку. Но сказанное Шаховым не шло из головы Сергея Степановича. Нелегким раздумьям он посвятил весь вечер.
…Происходило нечто диковинное: он воспарял к куполообразному потолку, переворачивался, как пловец, отталкивающийся ногами от стенки бассейна (только отталкиваться было не от чего), и плыл вдоль сферических стен, слегка загребая воздух. Он не чувствовал тяжести тела, налитости мускулов, упругости живота, все было ватным, обмякшим и словно бы существовало отдельно от него. Он напоминал себе космонавта в невесомости, правда, летал он в больничной пижаме, но вскоре и она перестала смущать, – значит, так нужно.
Внизу под ним копошились люди в синих халатах и марлевых повязках, они что-то делали, ему было плохо видно, он подплыл поближе, заглянул сверху и обнаружил себя, лежащего на узком столе и полуукрытого простыней. Грудь была располосована, и он увидел свое обнаженное сердце, трепетавшее под воздействием какого-то аппарата, подключенного с помощью тонких проводков. «Неужели я умираю?» – подумал он, но страха не было, а было любопытство, и он распластался над головами людей, совершавших с его телом странные манипуляции.
Потом все померкло, заволоклось, стало могильно-черным, он судорожно забился, забултыхался, точно тонущий, и тут ему открылся свет, слабо сочившийся из стены. Он заспешил к нему и обнаружил проход, в конце которого зияло отверстие, расширявшееся по мере приближения к нему. Но подплыть к отверстию не удавалось – невидимые тугие волны всякий раз отбрасывали.
Отверстие превратилось в огромную, с человеческий рост дыру, в ней клубилась освещенная солнцем тончайшая золотистая пыль. В дыре появился приземистый усатый, страшно знакомый человек во френче, галифе и сапогах. Сложив руки на груди, усатый сосал трубку, недобро щурился и смотрел на него, пытающегося приблизиться к источаемому снаружи свету. Значит, уже осень, подумал Лучковский. Хозяин всегда начинал курить трубку с осени, весной и летом предпочитая папиросы.
Рядом с усатым выросли две мужские фигуры, в одной он узнал дчдю полковника госбезопасности, в другой Красноперова. Дядя махал ему, нетерпеливо подпрыгивал и что-то кричал. Отраженное, как от стенок колодца, эхо мешало понять слова. Вслушиваясь, он различал: “Ты, Серега, мудро поступил, вовремя ушел из “органов”. Не то посадили бы, как меня, на десять лет”. – “За что меня сажать, я никому ничего худого не сделал!” – чуть ли не взмолился он, тщетно пробиваясь к дыре. – “Врешь, Серега, сделал, все мы натворили бед”, – возбужденно кричал дядя, лысый, маленький, круглолицый, и вновь подпрыгивал мячиком. Ким грозил кулаком: “Я тебя, Лучковский, давно раскусил, не нашего ты поля ягода. Следовало бы тебя прищучить”.
И вдруг все трое испарились, улетучились, словно их и не было, он почувствовал, как свинцово наливаются, грузнеют, разбухают части дотоле невесомого тела, тяжелеет голова, сдавливается грудь, и он начал куда-то проваливаться.
Очнулся он от острой боли в сердце. Внезапный страх только теперь пронзил его насквозь, затмив неправдоподобные и, однако, реальные ночные видения. Такого с ним не случалось давно. И как назло, не захватил из Москвы нитроглицерин. Он лежал не шелохнувшись, стараясь задерживать дыхание – боль особенно мучила на вдохе.
Так продолжалось достаточно долго. Наконец он осмелился набрать воздух полной грудью и почувствовал облегчение…
Часы показывали начало шестого. Незашторенное окно комнаты густо чернело. Светать здесь в конце октября начинало с семи, солнце выглядывало еще через полчаса. Сон напрочь отлетел, и Сергей Степанович начал вспоминать то, что, вероятно, и вызвало сердечную боль, дивясь, сколь причудливо и загадочно отражаются в клеточках мозга дневные впечатления. Он попытался восстановить ночную фантасмагорию, стройной картины поначалу не выходило – бессвязные лоскутки, обрывки. Постепенно все-таки смог многое зримо воспроизвести, найти смутную логику, связавшую разрозненные куски. Чтобы логика стала ясной и убедительной, следовало крепко напрячься и во всем разобраться, на это у Лучковского покуда не хватало сил.
Наяву все выглядело и происходило иначе. Дяде-полковнику никто не давал срок, его вообще не арестовывали, а по-тихому уволили из КГБ и спровадили на пенсию сравнительно молодым. Заимев дачный участок, стал дядя разводить “цветуёчки”, как называл их. Колупался в земле от зари до зари, добывал семена редких сортов, завел теплицы и начал торговать на рынке тюльпанами, гладиолусами, розами и прочими произраставшими на его восьми сотках цветами. Говорил он теперь только о них и ни о чем больше, жалея, что не занялся красивым и доходным промыслом много раньше.
И, однако, дядина фраза царапала наждаком. Глупость, отмахнуться и забыть, в конце концов сон, какой с него спрос. Ан нет, Сергей Степанович продолжал крутить, вертеть фразу так и этак. “Вовремя ушел из органов…” Да разве он думал тогда о сроках, тянул, выгадывал время или, напротив, гнал его вскачь? Судьба его могла решиться единственным образом, только так и не иначе, и потому двигали им не хитрость, умысел или сверхпрозорливость – совсем иное. Главное – была Соня, была любовь. Скрутил ее рак три года назад, потеря жены образовала внутри незаполняемую никем и ничем воронку, хотя есть сын, растут два внука…
Что касается Кима, то он исчез с его горизонта в пятьдесят третьем. Думалось, насовсем. Получилось иначе. Тогда, в пятьдесят третьем, случайно встретились на прощании со Сталиным. Соня умоляла не ходить, он пренебрег ее просьбой. Надев выходной костюм и привинтив орден, он решил вечером после работы пробиться в Колонный зал. Наступавшие в нем перемены, незаметно идущие разрушительные и очистительные процессы отслоились от него. Нутро требовало – п р о с т и т ь с я, противоборствовать ему он не захотел.
Увидеть Сталина, однако, не удалось. Доехав на метро до “Красных ворот”, он вышел наружу и услышал усиленное мегафонами объявление: “Расходитесь, товарищи, вы не сможете попасть в Колонный зал”. Услышанное не подействовало на него. Сквозь людское месиво он двинулся по улице Кирова, дальше переулками и к полуночи очутился между Сретенкой и Трубной площадью, где образовался страшный затор. Грузовики перегородили пол-улицы. Было холодно, горели костры, в огонь шло все, что попадалось под руку. Люди грелись у костров, многие плакали.
Сергей обратил внимание на старуху в черном платке, повязанном внахмурочку, до бровей. Она исступленно шептала бессвязное, падала на колени и молилась, ела снег, вскакивала и начинала вращаться юлой, потом наступало просветление, она успокаивалась и только тихо постанывала, произнося уже внятное. “Закатилось солнце, как жить будем”, – различил в ее заклинаниях. Она была полоумной, эта старуха, и все вокруг походило на массовое сумасшествие, на внезапно поразивший всех тяжелый психический недуг. Но тогда Лучковскому так не казалось, это он уже потом сделал вывод, а тогда вместе со всеми горестно грелся у огня, и перед ним вставал ж и в о й вождь: гуляющий на дачах, едущий в машине, играющий в бильярд, сидящий в первом ряду Сухумского театра…
Возле Трубной он и увидел Кима в форме, минующего оцепление. Их разделяло метра три. Лицо Кима, освещенное пламенем костра, показалось черным, точно в копоти. Сергей окликнул его, тот вздрогнул, заозирался, наткнулся взглядом на Лучковского, брови его поползли вверх, после чего в глазах зажегся злой блеск.
– Греешься? Ну-ну… – И поспешил по своим делам.
Дальше началось несусветное. Наперла толпа, прорвала оцепление, в жуткой давке Лучковского стали теснить к грузовикам. Слышались вопли, сдавленные стоны, треск рвущейся одежды, кто-то упал, его топтали сапогами, ботинками, валенками, Сергей с ужасом вминал подошвы во что-то мягкое, податливое; рядом с ним малый в шапке с “ушами”, завязанными на затылке, и блестевшей золотой “фиксой” с остервенением пытался содрать каракулевую шубу с насмерть перепуганной, верещавшей дамы. Сергей ничем не мог помочь, руки его были зажаты. Снять шубу в скоплении потерявших рассудок, обезумевших людей оказалось непросто. Один рукав треснул и оторвался. Малый выматерился, вне себя от ярости.
Невероятным образом Сергею удалось залезть под грузовики, где копошились такие же чудом выбравшиеся из толпы. Поняв, что сейчас под напором машины начнут переворачиваться, он пополз вдоль стены дома. На его счастье, проходной двор не был закрыт решетчатыми воротами, и он бросился туда. Попав в заточение каменных домов, в каждом окне которых, несмотря на ночь, горел свет, Сергей забился в первое попавшееся парадное и перевел дух. Он не чуял оттоптанных ног, ребра ныли, точно их сдавливали адскими пыточными тисками. Он потерял шапку, все пуговицы от пальто. Из пиджака с мясом был вырван орден. И тут Сергей заплакал, не в силах более сдерживать накопившиеся напряжение и усталость.
Ким сгинул, казалось, бесследно. Увы, нечто неотвязное продолжало преследовать Лучковского в образе карамазого красавца, будто посланное свыше властное напоминание о том скоротечном времени, которое Сергей Степанович по чьей-то воле н е и м е л п р а в а забывать. Кто учинил над ним злой умысел, чья воля цепко держала его в тенетах? Он этого не знал, не ведал. Но содрогнулся, увидев в коридоре своего института холеного седовласого мужчину, слегка располневшего и все еще сохраняющего осанку. Тот учтиво протянул Лучковскому руку и, слегка растянув губы в улыбке, изрек:
– Да, брат, постарели мы с тобой.
Похоже, он все забыл или не хотел вспоминать.
Затем он сообщил, что назначен в институте начальником отдела кадров. Случилось это в конце семидесятых.
Бежали дни, Красноперов доброжелательно здоровался с Лучковским, спрашивал о разных разностях. По делу и без дела заходил к нему, выделяя из ряда прочих сослуживцев. И вот однажды… Вызванный к директору на совещание Лучковский ожидал в приемной, куда вошел Ким Феодосьевич – в полковничьей форме, с орденами, медалями и знаком “Почетный чекист”. Бывший его приятель пребывал в радужном настроении, расточал улыбки, сыпал шутками, словом, вел себя несвойственным всегда серьезному, замкнутому кадровику образом.
– Загляни ко мне после совещания, – бросил он на ходу Лучковскому.
«По какому случаю Ким вырядился в форму?» – недоумевал Сергей Степанович. Сомнения его разрешились в кабинете кадровика. Ким Феодосьевич замкнул дверь на ключ, вынул из сейфа бутылку коньяка и плеснул в рюмки.
– У меня сегодня праздник, – произнес он торжественно.
– День рождения, что ли? – спросил Лучковский.
– Да, день рождения, ты угадал. Только не у меня. Догадайся, у кого? Ну, думай, думай. Какое сегодня число? Двадцать первое декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Ни о чем тебе сия дата не напоминает? Э, какой же ты непамятливый. Ровно сто лет назад родился Иосиф Виссарионович Джугашвили, которого весь мир знает как великого Сталина. Давай по этому поводу выпьем.
– Я пить не буду, – только и вымолвил Сергей Степанович.
– Почему же? – подозрительно глянул Красноперов.
– Кардиограмма плохая, – соврал.
– Ладно, я один выпью, – он медленно выцедил содержимое рюмки и закусил яблоком.
Минуло с той поры несколько лет, но не мог забыть Лучковский светившегося искренней, безыскусной радостью Кима Феодосьевича.
А сравнительно недавно Красноперов в сердцах швырнул на стол свежий номер “Московских новостей” и выругался.
– …Сколько же развелось поганых писак! Превратили Сталина в изверга рода человеческого. Кино еще выпустили, Москва с ума посходила. Я это “Покаяние” в гробу видел, сам не пошел и близким запретил. Но разве дети родителей слушают! Сын в одно ухо впускает, в другое выпускает, а внук, первоклассник, тот прямо: “Правда, что Сталин много людей понапрасну убил? Нам в школе говорили…” И газетенка эта помои выливает, – он раздосадованно скомкал и швырнул ее в урну.
– Внук, говоришь? Устами младенца… – не удержался Лучковский.
– Ты считаешь: правильно на Сталина набросились, многие беды наши ему в вину ставят?
– Я полагаю – правильно.
– Ну, ты иначе рассуждать не можешь, – обиженно протянул Красноперов. – Я же в отличие от некоторых прошлому не изменяю. Что было, то было, нельзя от этого открещиваться. Ведь если все переиначить, впору повеситься. Выходит, даром жизнь прожил, верил не тому, думал не то, поступал не так.
Тем и окончился их разговор, припомнившийся Сергею Степановичу благодаря тревожному сну в день его отъезда домой.
Утром за завтраком Лучковский и Шахов обменялись московскими телефонами. Договорились встретиться по приезде.
День прошел в сборах, укладывании чемоданов, упаковывании сумок с фейхоа, хурмой и мандаринами, увозимыми в Москву, короче, в предотъездной суете, приближавшей каждого к привычному укладу городской жизни, от которого они порядком успели отвыкнуть.
На вокзал их и других отдыхавших доставил к часу ночи специально поданный «рафик» – прощальная любезность администрации. Соседями по купе оказались муж с женой, жившие по профсоюзным путевкам на Пицунде. Все сразу же улеглись спать, Сергей Степанович и Шахов – на верхних полках.
Встали они утром поздно, умылись, побрились, попили чаю с печеньем и снова устроились на полках: Шахов раскрыл томик Мандельштама, Лучковский стал перечитывать свою статью для научного сборника. Завтракавшие внизу супруги вели неспешную беседу. Работали они в строительном тресте, судя по всему, в одной бригаде, видно, соскучились по ней, ибо то и дело касались каких-то знакомых им одним имен, путаных взаимоотношений, перехода на коллективный подряд и препон этому, искусственно чинимых неким Гордеичем. Голоса мешали Сергею Степановичу сосредоточиться, он положил стопку исписанных листов на боковую сетку и смежил веки, вгоняемый в дремоту мерным перестуком колес.
На душе было муторно. Причиной тому являлся погруженный в чтение на соседней полке человек с острым хищным носом. Не один час провел Лучковский в раздумьях, как, каким образом намекнуть на свое д а в н е е знакомство с ним, сколько возможностей для этого упустил: и на прогулках у моря, и на Рице, и во время таких неожиданных, откровенных, обнаженных бесед – и вот поезд мчит их домой, а он так и не смог открыться. И ведь наверняка будут дружить в Москве, но что это за дружба, если у одного на душе камень и никак не может сбросить его, почувствовать запоздалое облегчение.
Обедали и ужинали они в ресторане. Сергею Степановичу вдруг захотелось выпить – увы, спиртного не подавали. Стемнело, в полузашторенном окне купе мелькали редкие огоньки, супруги по-прежнему монотонно судачили о своих делах, пытались втянуть в разговор соседей, те отделывались ничего не значащими фразами и безучастно глядели в темное оконное стекло.
Георгий Петрович вышел в тамбур покурить, Лучковский увязался за ним и неожиданно попросил сигарету.
– Что это с тобой? – удивленно воззрился на него Шахов.
– Не знаю… Настроение смурное.
– То-то я заметил: будто не в себе. Не выспался, наверное.
– Да нет, выспался, – он прикурил, затянулся и закашлялся.
– Ну вот, охота была, – укорил Георгий Петрович и приказал: – Брось сигарету.
Сергей Степанович продолжал жадно втягивать дым и больше не кашлял. Что-то прихлынуло, сдавило грудь, застучало внутри тревожным метрономом.
– Слушай, Георгий, я хочу восстановить один эпизод, – с усилием, задышливо выжал из себя, и точно лопнула стеснявшая речь преграда. – Пятьдесят второй год, первое мая, у твоего отца пропуск на Красную площадь, он уходит, а мать следом бежит в милицию: якобы он замышляет убийство Берии… Помнишь? Нет? – Сергей Степанович растерянно тряс головой. – Напряги память, такое ведь не забывается! – Он выпаливал одну за другой подробности того утра, с каждым мигом испытывая невероятное облегчение, будто открылся потайной клапан для выброса давно скопившегося пара.
Шахов слушал выкатив глаза, с немым изумлением и растерянностью. Сигарета догорела до фильтра, обжигала пальцы, он держал окурок, не замечая жжения. Пришел в себя, бросил под ноги окурок, отшатнулся от Лучковского и произнес отчужденно, холодно, цедя слова:
– Ты ошибся. Моего отца арестовали в тридцать восьмом, мне тогда год стукнул. Погиб он в лагере под Воркутой, посмертно реабилитирован. На сей счет имеется документ. Воспитывал меня отчим – художник. Никого никогда не собирался он убивать. И по сей день жив.
Теперь настал черед остолбенеть Сергею Степановичу.
– Не может быть! Нет, правда? Выходит, тот человек – не твой отец? Но какое сходство, с ума можно сойти!
– Не мой, – взгляд Шахова стал п р е ж н и м, скорбно-надменным.
– Это же прекрасно, что я ошибся! – лилось изнутри Сергея Степановича. Ему осталось лишь объяснить, раскрыть другу, сколь мучился он этими тягостными воспоминаниями, как турнули его из органов, как избыл мрачную полосу жизни, и он заговорил сбивчиво и горячо, желая и надеясь быть понятым до конца.
…Он очень устал и потому мигом заснул. Очнулся от скрежета двери купе, приоткрыл глаза и увидел, что уже по-утреннему развиднелось. Зевнув, сел на полке, свесив ноги.
– Курск проехали, – объявила причесывавшаяся внизу женщина. – А ваш приятель ночью сошел.
– Как сошел? – не поверил Лучковский.
– Да, ночью. В Харькове стояли. Я проснулась, он шебаршится, чемодан и сумку берет и в дверь. Вы вроде в Москву вместе ехали, чего это он?
Лучковский посмотрел на соседнюю пустую полку, на крючок с вешалками – Шахова и след простыл. Он мигом соскочил с полки, гонимый предчувствием, и на столе обнаружил листок бумаги. Развернул и увидел свои телефоны — рабочий и домашний. Ниже шла приписка:
“Возвращаю за ненадобностью”.
Конец
Давид Гай
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке