ДЕСЯТЫЙ КРУГ
ЖИЗНЬ, БОРЬБА И ГИБЕЛЬ МИНСКОГО ГЕТТО
ОТ АВТОРА
Повесть “Десятый круг” вышла в Москве отдельной книгой в самом начале 1991 года стотысячным тиражом. Судя по оценкам читателей, она вошла в список бестселлеров. По сути, стала первой, изданной в горбачевский период и рассказавшей то, что в СССР принято было замалчивать, и уж во всяком случае, широко не афишировать. Еврейские гетто оставались своего рода “белыми пятнами”, население знало о них в самых общих чертах. Советская пропаганда тратила огромные усилия на борьбу с “тлетворным влиянием сионизма”, Израиль подвергался всяческому осуждению — тема тотального уничтожения фашистами евреев не вписывалась в эту “борьбу”.
В этом году мир отметит 80-летие окончания Второй мировой войны. Отметит по-разному. Выросли новые поколения, для которых Холокост и его последствия выглядят сугубой историей, изучать которую и познавать полезные уроки мало кто собирается. Для кого-то это неактуально, кто-то не хочет смотреть правде в глаза. Более того, отношение к евреям в мире резко ухудшилось, трагические события 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль и совершил чудовищные преступления, включая захват заложников, не получили должного осуждения. Напротив, палестинские террористы получают широкую поддержку, в том числе с высокой трибуны ООН.
И я подумал о судьбе моей повести, посвященной жизни, борьбе и гибели Минского гетто: минуло 35 лет после выхода ее в свет, насколько актуальна она сегодня, когда антисемитизм свободно гуляет по планете? Ко мне обращаются живущие в Америке русскоговорящие читатели с просьбой помочь достать мою книгу. Увы, я отвечаю отказом — лишних экземпляров у меня нет. Выяснилось, что и в России почти отсутствуют, став библиографической редкостью — во всяком случае, таковы данные крупнейшей сети продажи книг “Озон”.
И созрело решение переиздать по-русски “Десятый круг”, внеся необходимы изменения, с учетом миновавших трех с половиной десятилетий. (Переведенная на английский, повесть продается на Амазоне под названием Innocence in Hell. Перевод сделан в 2004 г.)
Она вобрала в себя голоса тех, кому выпала доля в минувшую войну пережить гетто. Пережить в прямом и переносном смысле. С большинством этих людей весьма преклонного возраста автору удалось встретиться и записать их рассказы. Некоторые ушли из жизни раньше, но, как правило, оставили свои воспоминания родственникам, детям с надеждой, что когда-нибудь кому-то понадобятся. И вот — понадобились. И ныне здравствующие, и уже умершие — для меня живые свидетели.
Малые печали словоохотливы, глубокая скорбь безмолвна — говорили еще древние. Может быть, еще и поэтому так долго шла к нам правда об этой странице войны. Как писать о том, во что сейчас, по прошествии стольких лет, новому поколению трудно поверить? Как писать о нечеловеческих муках и стойкости обреченных, о массовом уничтожении тысяч и сопротивлении сотен?
Едва начав знакомиться с историей Минского гетто — одного из самых больших на территории СССР, да и Европы, я твердо решил: опираться только на факты и документы, избегая всякой попытки беллетризации. Домысливать то, что происходило на самом деле и было страшнее любой самой кошмарной фантазии, показалось мне абсурдным и даже кощунственным.
Убийство — не новое явление на земле. Каинов грех сопровождает род человеческий испокон веков. Но двадцатый век породил убийство особого рода, именуемое геноцидом. Несколько геноцидов оставили свои зловещие следы в прошлом столетии. Армян уничтожали турки, евреев — гитлеровцы, кхмеров — сами кхмеры. Погибли соответственно два, шесть и три миллиона человек.
При всей несхожести причин массовых злодеяний имелось в них и общее — спланированность. Варварство вполне уживалось с цивилизованными (как ни дико звучит) средствами уничтожения. Ятаган, газовая камера и мотыга успешно выполняли роль инструментов убийства. А задача была одна — стереть с лица земли целые народы, по крайней мере подавляющее число людей одной национальности. Впервые в истории появилась новая единица истребления — народ.
Один геноцид как бы передавал эстафету другому опирался на предшествующий опыт, черпал в нем силу и уверенность, оправдывал им пролитую кровь безвинных. На совещании в Оберзальцбурге в августе 1939-го накануне вступления в Польшу Гитлер вопрошал: «Кто же сегодня еще говорит об истреблении армян? Не надо обращать внимание на общественное мнение, нужно безжалостно убивать мужчин, женщин и детей…»
Единственное, над чем не властно время, — память. В этой повести память о гетто расщепилась на многие десятки человеческих свидетельств — прямых, бесхитростных и страшных. В гетто, как и в концлагерях, фашисты стремились довести людей до такого состояния, чтобы они едва могли различать добро и зло. Человек, по замыслу фашистов, превращался в животное, душа его должна была почти утратить способность проявлять нормальные чувства. Но и в такой ситуации люди (не все, но многие) оставались людьми, доказывая величие человеческого духа.
Рассказы узников минского гетто о проявлениях этого духа наиболее дороги мне. Память-скорбь, память-надежда, память-предостережение — вот чем наполнена повесть, которая, автор верит, будет воспринята читательским сердцем.
Перед вами, уважаемые читатели, — избранные главы книги.
***
И сказал Господь сатане: откуда ты приплел?
Книга Иова
Я не вижу перед собой никаких классов и никаких сословий, но только общность людей, связанных единством крови.
Гитлер
Они выползали на свет божий скрюченные, похожие на собственные тени, истерзанные безысходностью, но не расставшиеся с робкой, как пламя коптилки, надеждой. Они слепли от июльского солнца, прикрывая ладонями глаза, привыкшие к темноте подземелья. Они все еще не верили в свое избавление и потому не могли выражать радость, произносить простые человеческие слова.
Их осталось тринадцать — мужчин, женщин, детей, переживших гетто, почти девять месяцев скрывавшихся в яме, в пещере возле кладбища. Единственной возможностью спастись для них было добровольно сойти в землю, укрыться в ней, попросив у нее защиты и приюта.
Почти 260 суток они спали днем и бодрствовали ночью — так, им казалось, безопаснее, — дышали миазмами и пили тухлую воду, хоронили под нарами умерших и видели в снах хлеб и луковицу. После освобождения города их обнаружили не сразу, лишь через полсуток, а сами они уже не могли подать о себе весть.
Это были последние оставшиеся в живых узники гетто. Не считая, конечно, многих из тех, кто ушел в партизаны, взял в руки оружие, превратившись из узников в мстителей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые…
И. Эренбург
…У меня открылись глаза на две опасности, имена которых я едва знал ранее и которые имели во всех случаях огромное значение для существования немецкого народа. Марксизм и еврейство.
Гитлер
С чего начали немцы? С того же, что в Польше, а затем повсюду,— с грабежей, насилия, расстрелов без всяких причин, просто так. Ну а к евреям особое отношение — расовые доктрины находили практическое применение.
Дом № 21 по улице Мясникова, густо заселенный (более трехсот жителей, много еврейских семей), утром 2 июля окружили. Мужчин, женщин, стариков, детей вывели во двор и поставили лицом к стене. Шесть часов держали под дулами винтовок и ручных пулеметов. Время от времени для вящей убедительности стреляли. Нет, покуда не убивали — пугали.
В квартирах шел обыск — попросту говоря, неприкрытый грабеж. Забирали ценные вещи, одежду, белье, одеяла, обувь, посуду и даже продукты питания: сахар, мед, масло, какао, рис. Все награбленное погрузили на два грузовика и увезли. На этом не кончилось. Ночью вернулись в еврейские квартиры. «Здесь оставались серебряные ложки. А тут мы видели кастрюли. А куда делся шелк?» Если дверей не открывали, их взламывали.
На той же улице Мясникова находилась школа, окнами смотревшая во двор жилого дома. Расположившись в школе, немцы нашли развлечение и забаву: на протяжении суток стреляли в окна квартир, то разбивая зеркала, то мебель, то попадая в живые мишени.
Так они начинали.
В первые июльские дни гитлеровцы заставили население города, всех от 15 до 50 лет, под страхом смерти явиться в концентрационный лагерь Дрозды под Минском. Сюда же согнали военнопленных. Скопилось там, по некоторым данным, 140 тысяч человек.
По Советской, около Большого сквера, вели колонну военнопленных. И вдруг один из них, молодой, высокий, с забинтованной головой, запел: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой». Песню подхватили. Зазвучала знакомая мелодия.
Что тут началось! Пальба, крики. Убитые на булыжной мостовой.
Пленные, согнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят… Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, живут по 6-8 дней без пищи, в состоянии животной апатии, вызванной голодом, и у них одно стремление — достать что-нибудь съестное…
По отношению к пленным единственно возможный язык слабой охраны, сутками несущей бессменную службу, — это язык огнестрельного оружия, которое она беспощадно применяет.
Из докладной записки министериального советника Дорша рейхслейтеру Розенбергу
Борис Хаймович:
Лагерь Дрозды. За что такие муки… Которые сутки без пищи, а главное, без воды. Рядышком речка, как раз за нашим полем, огороженным канатом. Закрываю глаза и вижу одно и то же: с разбега плюхаюсь в прохладные воды Свислочи, ныряю, фыркаю, резвлюсь. И пью, пью, пью. Мираж, сводящий с ума.
Что удумали, гады… Предложили запастись пустыми бутылками, привязать их к палкам и в порядке очереди под охраной «удить» воду из реки. Разрешалось окунать бутылку не более трех раз. Того, кто вставал в очередь повторно или не так «удил», ждал расстрел.
Поле в Дроздах — гигантский муравейник. Неверно сказал: муравьи-трудяги снуют туда-сюда, вечно в движении, а нам запрещалось даже подниматься. Полулежали, полусидели, чуть зашевелишься — вполне можешь пулю схлопотать.
По углам лагерной территории понаставили вышек с пулеметами. Ровно в шесть утра — перекрестный огонь с вышек по лежащим. Подъем по-ихнему, значит. В десять вечера снова пулеметный огонь — отбой. После каждого подъема и отбоя — сотни трупов.
Бесстрашные женщины пробирались к лагерю, бросались к канату, выкрикивали имена близких. Кто мужа искал, кто сына, кто родственника. Когда мы уже совсем доходили, разрешили немцы родственникам подкармливать заключенных. Еду приносили и — скрыто, в узелках — одежду, чтобы переодеться могли, в первую очередь военнопленные Им-то несдобровать, а так имелся шанс среди гражданских затеряться. Не всегда еда до нас доходила — уголовники отнимали. Повьшускали их фашисты из тюрьмы и тоже в Дрозды согнали.
Слух прошел: какой-то пленный ночью махнул через канат, переплыл речку и убежал. Стреляли в него из пулеметов, да не попали. И мне с товарищем моим Евсеем Шнитманом хотелось попробовать уйти. Только сил не было, истощены, измучены. Да и куда? В Минске, говорили, полно каких-то особых частей — с серебристыми плетеными погонами, орлом на рукаве и буквами «СС». А еще полевая жандармерия, полиция.
В один из дней подъехал автомобиль, оттуда в рупор объявили: военнопленные должны отделиться от гражданских. Сортировка. Искали коммунистов, переодетых командиров Красной Армии. Невдалеке раздавались выстрелы. Я с Евсеем в «цивильном» лагере остался. На следующий день до нас очередь дошла. Снова, сортировка — на евреев и прочих. Окружили отсеянных евреев. Набралось нас тысяч десять — больше, меньше, поди сосчитай.
Явился комендант лагеря и такую речь держал. Немецким властям требуются евреи-специалисты: инженеры, врачи, юристы, учителя, артисты, и так далее. Короче, люди интеллигентных профессий. А также квалифицированные рабочие. Всех специалистов переписать и списки передать ему, коменданту. Кое-кто сразу засомневался: провокацией, чудовищным обманом попахивает. Около половины инженеров, врачей и прочих тем не менее записались. Мы с Евсеем тянули до последнего момента, потом посовещались и решили записаться в рабочие.
Рабочих стали сгонять в одну колонну, служащих, то есть интеллигенцию,— в другую.
Помню, спрашивают у молодого красивого парня с черными волнистыми волосами: «Профессия?» — «Певец», — отвечает. Немцы как загогочут: «Певец? А ну пой! Пой, вонючий юдэ!» И автомат наставляют. И запел парень тенором, да так, что мы заслушались. На миг почудилось: нет ни лагеря, ни каната, ни запахов дерьма и мочи, ни фашистов, могущих тебя сию минуту расстрелять, есть мирная довоенная жизнь, сидишь себе у тарелки репродуктора или у приемника и слушаешь концерт по заявкам.
Спел парень народную еврейскую песню «Михутёнесте майне» — «Сватья моя». Узнал я певца, узнал по голосу — Горелик. До войны по радио часто передавали его выступления. Минская знаменитость.
Немцы довольны остались: «Гут, зеер гут!» — и оттолкнули Горелика к рабочим.
А на рассвете понаехало гитлеровское начальство. Приказали построиться. Колонну служащих в машины стали запихивать. Три-четыре машины набьют битком и отъезжают. Минут через двадцать слышны пулеметные и автоматные очереди. Возвращаются машины пустые, и снова погрузка…
Бедствовали узники «цивильного» лагеря, еще горше евреям приходилось, но хуже участи военнопленных не было. Нас хоть немного подкармливали родственники, они же голодали жестоко, и помочь им не представлялось возможным. Иногда ночью, обманув бдительность часовых, они прокрадывались в еврейскую часть лагеря, и мы делились с ними последними крохами. Рискуя жизнью, некоторые отчаявшиеся нападали ночью на немецких лошадей, пасущихся в лагере. Убить и разделать животное не хватало ни сил, ни времени — того гляди часовые могли застукать. Оглушив, языки у живых лошадей вырезали.
Довели фашисты живых людей до скотского состояния. И тут начали записывать на службу к немцам. Нашлись такие, кто завербовался. Их пайком обеспечили, новым обмундированием и перевели в лагерь по соседству, где они отдыхали, отъедались на виду у своих бывших товарищей. Многие же военнопленные решили измене, предательству смерть предпочесть.
Вскоре нас, евреев-рабочих, под конвоем в тюрьму повели. Кончились наши Дрозды…
Ефим Фейгельман:
Какой же я по счету в длиннющей шеренге? Если бы к краю стоял поближе, можно было сосчитать, а я в самой середке. Начал считать немец в очках, на бухгалтера похож или провизора. Дойдет до десятого, будто ворон каркнет — «центер», и тотчас вытягивают того из строя. А немец счет продолжает, идя вдоль шеренги. Опять до десятого доходит, и нового несчастного тянут. Скоро и до меня дойдет… Пронесло, шестым оказался.
А началось с глупости, чепухи: якобы у их офицера украли зубную щетку, мыло и полотенце. Выстроили нас в тюремном дворе, куда перевели из лагеря. Кто украл? Думаю про себя: ну кому, скажите на милость, понадобилась эта злосчастная щетка? Что, вор на глазах у всех умываться будет с мылом и полотенечком? Загнали нас в камеры, голодных, грязных, измученных, человек по тридцать в каждую, на всех одна параша, вонь хуже, чем в Дроздах — там хоть на открытом воздухе по нужде ходили. Полотенечко… Врут немцы, повод ищут, чтобы еще больше над нами поизгаляться.
«Кто украл?» — опять спрашивают. Все молчат. Тогда начали отсчитывать каждого десятого и тут же на глазах расстреливать.
«Кто украл?» — повторяют. Молчим. Тогда новый счет: «нойнтер» — каждый девятый. Потом «ахтер» — каждый восьмой.
Милостивой судьба ко мне оказалась, жив остался. Но что пережил — о том не берусь рассказать. Слов таких нет у меня.
…Нескольких часов не хватило мне, чтобы уехать из Минска. Перед войной был на партийной работе в Западной Белоруссии, налаживал там советскую власть. С 22 июня участвовал в организации эвакуации. И так все дни до прихода фашистов. А жену с сыном, семьи четырех сестер не вывез и сам застрял. Живя близко к польской границе, я-то лучше других знал: евреям при немцах надеяться не на что. Вот и первые подтверждения: сначала интеллигенцию в Дроздах уничтожили — тех, кто по незнанию и наивности правду о себе решил сказать, теперь за фахарбайтеров принялись, за рабочих, значит.
Родственники прознали, что мы в тюрьме (беспроволочный телеграф быстро сработал), понесли передачи. Немцы принимали еду без ограничения, бросали и сливали в грязные бачки, перемешивали и кормили нас. Пища прокисала, портилась, начались кишечные заболевания.
Ежедневно выгоняли нас на «прогулки». На каждом лестничном пролете эсэсовец стоял с палкой и бил каждого проходившего, приговаривая: «Шнель, ферфлюхте швайн!» Во дворе ожидал коридор из эсэсовцев, через который мы пробегали со сложенными на голове руками под градом палочных ударов. К концу экзекуции палки у немцев превращались в мочала. Многие с таких «прогулок» в камеры не возвращались…
Так продолжалось с неделю, пока нас из тюрьмы не выпустили.
Документ ПС-710
Берлин, 3 июля 1941 г.
Начальнику полиции безопасности и СД
группенфюреру СС Гейдриху
В дополнение к уже переданному вам с приказом от 24 января 1939 г. заданию осуществить решение еврейского вопроса в форме… наиболее подходящей для современных условий, настоящим поручаю вам провести всю необходимую подготовку в организационном, деловом и материально-техническом отношении для решения еврейского вопроса в целом на территории Европы, подвластной Германии. Поскольку при этом затрагивается компетенция других центральных учреждений, последние должны принимать участие.
Поручаю вам, далее, в ближайшее время представить мне общий проект подготовительных организационных, деловых и материально-технических мероприятий для проведения намечаемого окончательного решения еврейского вопроса.
Геринг
Рейхсмаршал.
Уполномоченный по четырехлетнему плану,
Председатель Совета министров
по обороне империи
9 июля в самых людных местах Минска был вывешен приказ полевого коменданта о создании гетто.
ПРИКАЗ
о создании еврейского района в городе Минске
1
Начиная со дня издания настоящего приказа, в городе Минске выделяется особый район, в котором должны проживать исключительно евреи.
2
Все евреи — жители города Минска обязаны после опубликования настоящего приказа в течение 5 дней переселиться в еврейский район. Евреи, которые по истечении этого срока будут обнаружены в нееврейском районе, будут арестованы и строжайше наказаны. Неевреи, проживающие в пределах еврейского района, обязаны немедленно покинуть еврейский район.
3
Разрешается брать с собой домашнее имущество. Кто будет уличен в присвоении чужого имущества или грабеже, подлежит расстрелу.
4
Еврейский район ограничивается следующими улицами: Колхозный переулок до Колхозной улицы, далее вдоль реки до улицы Немига, исключая православную церковь, до Республиканской улицы с прилегающими улицами: Шорная, Коллекторная, Мебельный пер., Перекопская, Низовая, еврейское кладбище, Абутковая, 2-й Апанский пер., Заславская улица до Колхозного переулка.
5
Еврейский район, сразу же после переселения, должен быть отгорожен от города каменной стеной. Построить эту стену обязаны жители еврейского района, используя для этой цели в качестве строительного материала камни нежилых или разрушенных зданий.
6
Евреям из рабочих колонн запрещается пребывание вне еврейского района. Означенные колонны могут выходить за пределы своего района исключительно по специальным пропуо кам на определенные рабочие места, распределяемые Минской городской управой. Нарушение этого приказа карается расстрелом.
7
Евреям разрешается входить в еврейский район и выходить из него только по двум улицам — Апанской и Островской. Перелезать через ограду воспрещается. Немецкой страже и охране порядка приказано стрелять в нарушителей этого пункта
8
В еврейский район могут входить только евреи и лица, принадлежащие к немецким воинским частям, а также к Минской городской управе, и то лишь по служебным делам.
9
На юденрат возлагается заем в размере 30 000 червонцев на расходы, связанные с переселением из одного района в другой. Означенная сумма, процентные отчисления с каковой будут определены позднее, должна быть внесена в течение 12 часов после издания настоящего приказа в кассу городской управы (ул. Карла Маркса, 28). Улица эта к тому времени еще не была переименована оккупантами – Д.Г.
10
Юденрат должен немедленно представить жилищному отделу городской управы заявку на квартиры, которые евреи оставляют в нееврейском районе и которые еще не заняты арийскими (иееврейскими) жильцами.
11
Порядок в еврейском районе будет поддерживаться особыми еврейскими отрядами порядка (специальный приказ об этом будет своевременно издан).
12
За переселение всех евреев в свой район несет полную ответственность юденрат города Минска. Всякое уклонение от выполнения настоящего приказа будет строжайше наказано.
Не успели ознакомиться с этим приказом, появился новый — о желтой «заплате» (ее сразу стали называть по-белорусски — «латой»). Указывался размер (десять сантиметров в диаметре, не больше не меньше, — немецкий пунктуализм) и место, на которое она должна быть нашита,— левая сторона груди и спины. В конце: «За неисполнение приказа — смертная казнь».
Обитатели гетто получили, таким образом, свой опознавательный знак. Наличие его, равно как и отсутствие, могло повлечь за собой гибель, немедленную или отсроченную.
Приказы вызвали шок, оцепенение. Люди прятались. Гитлеровцы рыскали по улицам, домам, ловили тех, кто вписывался в их представления о семитской расе. Однажды к комендатуре привели группу лиц с «соответствующими физиономиями» и вымазали желтой краской. Одновременно шла регистрация еврейского населения.
И потянулись толпы в район гетто. Туда шли евреи, оттуда, навстречу им, белорусы, русские, татары… Шли со скарбом, несли то, что можно было унести. Скорбные караваны тащились навстречу друг другу с утра и до позднего вечера. Повезло, если позволительно так сказать, евреям, и раньше жившим на территории, отведенной под гетто, — им не надо было трогаться с места. К ним подселяли прибывающих, уплотняли, спрессовывали людей, стараясь максимально использовать каждый метр «жилой» площади.
И приказы, приказы, приказы. Они появлялись в городе по несколько раз в день. «Все трудоспособные мужчины обязаны регулярно отмечаться в юденрате и оттуда колоннами в сопровождении охраны отправляться на работу». «Все обязаны внести деньги на сооружение стены вокруг гетто». «Все обязаны сдать ценности: золото, серебро, а также радиоприемники, музыкальные инструменты». Рождалась видимость порядка. Немецкого порядка.
ЗДАНИЕ ЮДЕНРАТА
Понемногу стали собираться у юденрата. Где еще сходиться жаждущим обменяться новостями, послушать людей? Особо ценились сведения с железной дороги. Очевидцы, которых гоняли туда на работу, рассказывали: много эшелонов с немецкими ранеными идут на запад. Скоро Красная Армия даст фашистам прикурить. Кто-то божился, что видел собственными глазами: к хлебозаводу подъехала машина с солдатами в немецкой форме, они нагрузили ее доверху, раздали буханки стоящим рядом евреям, сказали на чистом русском: «Не падайте духом, скоро будете свободны». Ах, как хотелось в это верить!
Минуло пять дней, отпущенных на переселение, а ему и конца-края не виделось. За деньги юденрату удалось продлить срок. Люди сами тащили узлы, чемоданы, баулы — не было ни подвод, ни лошадей. Гетто все больше разбухало, в маленьких домишках был на счету каждый свободный метр.
Скоро, совсем скоро здесь окажутся все евреи Минска, потом к ним добавятся согнанные из близлежащих местечек, потом прибудут евреи из Германии (их станут называть «гамбургскими»). На небольшом кусочке земли скопится сто тысяч изгоев, и для них начнется отсчет уже другого времени.
Правда, среди евреев находились и такие, кто не хотел жить в гетто. И немало. Но судьба неумолимо толкала их к собратьям по несчастью.
Белла Пруслина:
Когда у тебя на руках двое малюток, годовалая девочка и шестилетний мальчик, первый вопрос: чем их кормить? Нам не удалось далеко уйти от Минска. Вернувшись домой после бомбежек и обстрелов с самолетов, после всего этого ужаса, я нашла свою комнату пустой. У нас не было абсолютно ничего, не было даже чем укрываться. Мы ходили по домам, нищенствовали, и я спрашивала себя: боже, со мной ли это происходит?
Идти в гетто я не хотела. Не могла себе представить, как смогу жить взаперти, в положении раба, чем буду кормить детей. Здесь, в городе, есть хорошие знакомые, они не чураются меня, помогают чем могут. А что будет там?
Однако нашлись и иные соседи. Выбили у нас стекла, однажды в наше отсутствие набезобразничали, нагадили в комнате, делали все, чтобы мы ушли. В конце концов нас кто-то выдал. В комнату вошел полицейский, разговаривавший на смеси немецкого и польского, и начал допрашивать, почему я нахожусь в чужом районе.
— Ты ведь жидовка?
— Да, но у меня муж русский.
Было так тяжело на душе, что весь страх пропал. Его удивило мое спокойствие.
— С кем ты живешь? — спросил он.
Я указала ему на девочку, сидевшую на полу, позвала мальчика.
— Мне собираться?
Он ничего не ответил и все смотрел на меня.
— Почему ты не идешь в гетто?
— А что мне там делать? Умирать с голоду? Если погибать, то можно и здесь, мне все равно.
Он покрутился по комнате, вдруг резко повернулся ко мне:
— Живи тут.
Когда я спросила, что он имеет в виду, полицейский злобно выкрикнул: «Лебен зи хир!» («Живите здесь!») — и вышел.
Ко мне несколько раз приходили из домоуправления, требовали документы, на основании которых я живу здесь. Мне нечего было им показать.
— Или хлопочи об аусвайсе, или уходи.
И я ушла в Комаровку, к моим бывшим соседям Барсукам. Белорусы, они сами перебивались кое-как, голодали и все же помогали, делились последним куском. Такие это были люди…
Я не сидела дома, кружила с детьми по городу. Оттуда, где нас принимали, сын не хотел уходить, капризничал:
— Мама, почему мы уходим? Нас же не прогоняют!
Он еще не понимал, в каком положении мы находимся.
Однажды, когда мы с Леной Барсук пекли на кухне картошку, раздался сильный стук в дверь. У меня сердце оборвалось. Накинула на себя платок, повязалась так, чтобы во мне не узнали еврейку. В комнату вошел хорошо одетый человек средних лет. Увидев его, Лена незаметно ущипнула меня. Я все поняла. По ее рассказам, рядом живет неприятный тип, немецкий холуй, его надо опасаться. Это он и был. Непрошеный гость походил по комнатам, будто искал что-то, вернулся на кухню и начал потирать руки:
— Ох и погрелся я сегодня!
— Что это значит? — спросила Лена.
— В Пуховичах помогал евреев ловить.
Он пробыл недолго, на прощание сказал:
— Живем дом к дому, дай, думаю, зайду посмотрю, кто же здесь обитает. — И при этом странно посмотрел на меня.
Положение стало невыносимым Я решила оставить у кого-нибудь детей: пусть хоть они выживут, а я уйду в гетто. К тому времени уже знала, что там находятся мой брат Мотя и сестра Ася.
Мой мальчик не был похож на еврея, и я отдала его в белорусскую семью Яциновичей. Когда я собирала его вещички, мальчик, видимо, все понял и разрыдался. Позже мне рассказывали, как он приставал к хозяйке с расспросами:
— Тетя Маруся, почему мама не приходит?
Пришлось ей выдумать историю о том, что руины дома рухнули и убили меня. Когда становилось тревожно, он говорил им:
— Не беспокойтесь, я скажу так, как меня учили: маму убило, папа пропал на войне.
Годовалая девочка постоянно плакала, страдала от голода, заболела, начался понос, головку она совсем не держала, становилась все слабее и без конца просила. «Дай, дай». Мне посоветовали подбросить ее.
С трудом я решилась на это. Я слышала, многие евреи выносят детей из гетто, оставляют их на улице, и благодаря нашим людям, работающим в городской управе, этих детей забирают в детдом. Но как это сделать? Днем могут увидеть, ночью девочка за мерзнет. От этой картины у меня стыла кровь.
Выхода не было.
До войны в бухгалтерии завода имени Кирова работали две русские девушки. Они хорошо ко мне относились. Я учила их бухгалтерскому учету. Бродя из дома в дом как побирушка, я столкнулась с одной из них. Рассказала ей, что хочу оставить Дину. Та расплакалась, начала отговаривать.
— Как вы можете бросить родное дитя?
— Аня, ты знаешь меня, знаешь, какая я была мать Меня ведь убьют, пусть хоть она останется в живых
Я начала просить ее помочь, она отнекивалась, говорила, что одна не сможет. Я ухватилась за соломинку: «Ты только не отказывайся, я найду кого-нибудь».
Начала расспрашивать о другой девушке, Наде. Она дала мне ее адрес. Я тут же пошла к Наде и рассказала ей обо всем. Она согласилась помочь.
Назавтра мы собрались у Ани И надо же случиться, что в это время к Ане приехала на подводе ее мать, направлявшаяся в деревню выменять вещи на продукты. С ней ехал один мой знакомый, тоже раньше работавший на заводе имени Кирова.
Узнав о том, что мы задумали, мать Ани велела положить девочку на подводу, а самим уйти. Я дала девочке кусок хлеба в руки, чтобы она не плакала, а в кармашек положила записку о том, что ее зовут Нина Лепчикова.
Уйти далеко не было сил. Зашла за угол и стала ждать. Женщина пошла в ближайший полицейский участок, заявила, что ей подбросили ребенка, и показала записку. Пришли двое полицейских и забрали ребенка. Аня и Надя находились во дворе и делали вид, что эта история их не касается. Их полицаи и заставили отнести ребенка в детский дом, дав направление из Управы.
А я пошла в гетто.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Нет огня в очаге.
Нет дыма
Над крышей.
Нет времени жить.
Нет времени умирать.
Фолькер фон Терне (перевод А. Богомолова)
Кто виноват в том, что кошка жрёт мышь, мышь, которая ни одной кошке не сделала никакого зла? Мы не знаем, в чем смысл этого, но мы хотим видеть еврейский народ в состоянии разгрома.
Гитлер
Один неотвязный вопрос мучил меня все время, пока я собирал свидетельства живых. Он не давал покоя, тиранил вновь и вновь. Зачем они шли? Зачем они шли в гетто? Не лучше ли было рассыпаться, разлететься, скрыться в пуще, связаться с партизанами (должны же они были существовать) или пробиться через линию фронта к своим? И чем сильнее одолевали меня докучливые мысли, тем понятнее становилось, выхода у них не было. Все было предопределено, и потому люди эти не подвластны ничьему суду.
Итак, почему они — в большинстве женщины, дети, старики — шли в гетто? Далеко не все понимали его сущность, многие питали иллюзии, надежды. Вместе, сообща, им казалось, легче пережить голод, болезни, смерть близких И в этом они были правы. Кто кинет в них камень, кто посмеет осудить безоружных? Тогда они еще не знали, что поставлена поистине дьявольская цель — уничтожить весь народ. Весь, без остатка. Скрыться в лесах, пробиться через линию фронта? Пробовали. Гибли в пути от пуль, голода. Несколько подростков пятнадцати-семнадцати лет в первые же дни ушли из гетто, лесами, болотами, проселками добрались до Смоленска и не смогли пересечь линию фронта. Слишком ожесточенные развернулись бои. Подростки вернулись назад.
Переодевшись в деревенское, в лаптях отправился в Узденский район Кравчинский, тот самый, о ком шепотом говорили в Дроздах, что он ночью под пулеметами убежал из лагеря, переплыл речку и скрылся. Отправился туда, где, по слухам, находились партизаны и разрозненные красноармейские части. Десяток яиц, предусмотрительно взятых с собой, помог ему доехать до Лошиц на попутной немецкой машине. Но в лесах он никого не нашел и тоже вернулся в гетто.
Время организованных уходов в партизаны насту пило несколько позже
Обитатели гетто зажили своей особой, ни на что не похожей, казавшейся немыслимой и однако вполне реальной жизнью.
Еврейский район обтянули колючей проволокой в пять рядов. Выход из-за проволоки карался расстрелом. Общение с городским населением тоже Любая торговля, покупка продуктов в городе – тоже расстрел. Не разрешалось ходить по тротуарам только по мостовым. Запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать театры, музеи, библиотеки и прочие культурные учреждения
Однако и за проволоку выходили (охрана на первых порах была менее бдительной), и в городе меняли вещи на продукты (не умирать же голодной смертью) и с русскими, белорусскими друзьями и знакомыми встречались, непременно вспоминая, как жили до войны дружной интернациональной семьей не ощущая ни малейшей взаимной вражды или антагонизма. Все это с риском для жизни.
В семье рабочего Черно было четверо маленьких детей. Жена Черно Анна, не вынеся голодных ребячьих глаз, пошла в город к знакомым просить помощи. На обратном пути ее остановили полицейские, отобрали продукты, повели в тюрьму и там расстреляли.
Такая же участь постигла Розу Таубкину, которая вышла за проволоку, чтобы встретиться с русскими родственниками мужа.
Действовал юденрат, насчитывавший шесть отделов, труда, снабжения, опеки, паспортный, пожарный и службу охраны порядка. Подобран был штат юденрата, очевидно, привычным для немцев способом. На улицах (еще до окончательного переселения в гетто) поймали несколько евреев-мужчин, привели в комендатуру и объявили им, что отныне они представляют еврейский комитет, обязанность которого — беспрекословно выполнять все распоряжения властей. За малейшую провинность — расстрел.
Председателем юденрата стал Илья Мушкин — в наказание себе за допущенную оплошность, дал понять офицеру комендатуры, что немного знает немецкий. На глазах поседел, сгорбился Мушкин, стал отворачиваться от соболезнующих, а чаще негодующих взглядов.
Каждое утро из ворот гетто отправлялись в город колонны людей. Использовали их на самых тяжелых работах, в основном на разгрузке и погрузке. Дневная плата — похлебка и сто граммов хлеба. Кто не работал, а таких в гетто было немало (старики, пожилые женщины, дети), не получал ничего. Несколько сотен фахарбайтеров — рабочих, уцелевших после бойни в Дроздах, объединили в мастерские. Их труд пока был нужен, потому кормили их лучше остальных. Хотя понятия «лучше» и «хуже» выглядели весьма относительно.
Местным рабочим нееврейского происхождения выдавались специально выпущенные оккупационные марки. Неквалифицированные рабочие и служащие получали в месяц 25—30 марок, квалифицированные — 40—50, мастера —60. А тарелка борща стоила три с половиной марки, яйцо — пять марок, сто граммов колбасы — десять. Существовали и плохо отовариваемые карточки. Евреи же не имели и такой мизерной оплаты.
Но все это еще можно было пережить. Совсем иное началось в августовские дни. Ночные нападения на дома яснее ясного показали, что ждет гетто. По сравнению с этим все прочее переставало иметь какое-либо значение.
Крики «Спасите!» будили по ночам и без того тревожно спавшее гетто. Немцы и полицейские (украинский и латышский батальоны, позже к ним присоединился литовский; хватало и прочей нечисти) врывались в дома. Кровь будоражила кровь, требовала новой крови.
Наутро ползли слухи, которым разум отказывался верить. В квартиру врача Эсфирь Марголиной вломилась банда, зверски избила всех, а двоих застрелила. Над семьей Каплан долго измывались, отцу выкололи глаза, дочери отрезали уши. В другом доме, где жили молодые женщины, жены командиров Красной Армии, полицейские устроили оргию. Заставили женщин раздеться догола и плясать на столе, потом изнасиловали и искромсали ножами. И грабежи, грабежи…
Верить приходилось, ибо зверства стали совершаться и днем, на глазах у многих. Чаще всего это происходило на улицах и в переулках, примыкавших к ограждающей гетто проволоке, — «гостям» так было сподручнее. Люди правдами и неправдами стали перебираться в середину гетто, подальше от проволоки
Но случалось, что безоружные давали отпор вооруженным. Да и полицейские попадались разные.
Борис Хаймович:
Однажды в наш дом по Зеленому переулку ввалились двое, один в красноармейской форме без петлиц и с винтовкой, другой в гражданском с повязкой полицейского на рукаве, без оружия. Ставят нас к стенке. «Красноармеец» загоняет патрон в канал ствола и выкрикивает: «Гельд, гольд, зильбер, ур!» А полицай переводит: «Немедленно сдать деньги, золото, серебро, часы, а иначе вам всем хана»
Я отвечаю: мы беженцы, ценностей у нас нет. Тогда «красноармеец» стреляет поверх голов и повторяет свое требование. Я снова отвечаю — ничего нет. Во мне все кипит от ненависти. Вооруженный вновь заряжает винтовку и концом ствола бьет меня в живот. От боли перехватывает дыхание. Инстинктивно хватаюсь за ствол, отвожу дуло вбок и тяну винтовку к себе. «Красноармеец» теряется, лепечет по-украински: «Пусты!» Я ему: «Сопляк, я сейчас научу тебя, как стрелять!» — «Дяденька, пусты, я бильше не буду, я уйду».
Убей я его, и враги уничтожат всех жильцов дома, весь переулок. И я выпускаю ствол. Предатели сматываются.
Через день опять входят в дом, на сей раз два полицая. Начинается обыск, я не выдерживаю и заговариваю с одним:
— Как тебе не стыдно? Ты здесь грабишь нас, а где-то у тебя на родине такие же, как ты, грабят твоих родителей!
Смотрю: топчутся на месте, поворачиваются — и вон из дома. Видно, не всю еще совесть потеряли.
14 августа разнеслось: ловят мужчин. Операцию проводили гестаповцы. Окружив часть гетто, они вламывались в квартиры с одним словом на устах — «меннер!».
Облавы повторились 26 и 31 августа. Всех пойманных погрузили на машины, отвезли на Юбилейную площадь, оттуда в тюрьму и там расстреляли.
По некоторым сведениям, погибло около пяти тысяч человек.
Арон Фитерсон:
Одной ногой я уже на чердаке, где обычно спасаюсь от облав, а второй едва в могиле не оказываюсь. Поздно услышал шум мотора и не успел. Что прикажете делать, если на раздумья считанные секунды? Жена не теряется, стаскивает с меня обувь, укладывает в постель и на голову пузырь с водой — вроде я болен. И тут же врываются два немца.
— Больной? — спрашивает один.
— Больной, — отвечает жена.
— Что у него?
— Почки.
— Зачем же на голове пузырь? — и вынимает пистолет из кобуры.
Дети плачут, жена бросается к нему, снимает часики и сует.
— Но-но! — кричит на нее немец, не хочет вроде брать. Потом прячет пистолет, делает знак второму — пошли, мол. Тот выходит. Немец с пистолетом немного задерживается, закладывает руки за спину и тоже уходит, будто не замечая, что жена всовывает ему часики.
В последний день августа ловили молодых женщин. Кто попадется, без разбору.
Софья Гродайс:
Пройдет или не пройдет мимо? Длинный, сутулый, губы тонкие, ниточкой, плотно сжаты, отчего продолговатое вытянутое лицо кажется еще злее. Как флюгер, вертит головой по сторонам, вперяется взглядом прямо в меня (я от щели в занавеске аж отпрянула) и медленным уверенным шагом движется к крыльцу. Не бежит, как другие, а именно движется, всем видом показывая, если кто в доме есть, от меня не скроется. А у нас все попрятались, одна я осталась и дочка Лиля, трех с половиной годочков.
Куда деваться? Внутри захолодела вся, а ко лбу и щекам, наоборот, что-то теплое прихлынуло. Когда опасность наступает, я лучше соображать начинаю. Не то чтобы лучше, а быстрее И возможности отыскиваю невероятные, потом сама дивлюсь на себя. Тихонько, без скрипа растворяю окно: пускай думает, что через него убежала. А сама мигом в кровать, под перину, распластываюсь, вжимаюсь в пружины.
Слышу, входит. У дочки спрашивает: «Где твоя мать?». Лиля, умница, говорит:— «В окно убезала». Дети, они в гетто быстро соображать учатся. Немец кладет руку на кровать, чувствую ее тяжесть. Ну, думаю, пропала. Он ругается и выходит.
Дора Шейвехман:
С самого начала я решила бежать из гетто. Когда очередным утром нас повели на работу, я смогла уйти в близлежащий лес. Ушли со мной еще несколько женщин. В лесу встретилась со своей знакомой Быковой. Она не была в гетто, но тоже скиталась. 10 сентября я родила дочку. Быкова, старая опытная женщина, принимала у меня роды, перекусила пуповину зубами.
Но через несколько дней все равно пришлось вернуться в гетто. Ведь там можно было найти хоть какую-то еду.
…Однажды нас выгнали на улицу. Людей видимо-невидимо. Начало темнеть. Повалил снег Я была в шерстяном платке. Надела его на голову, завязала крест-накрест узлом на спине, а на груди под платком спрятала девочку. Как она еще жила, не знаю.
Нас повели. Долго ли шли, не помню, страх все спутал. Подвели к еврейскому кладбищу в конце Сухой улицы. Я поняла, что ведут на расстрел.
Нас построили, и тут началась стрельба. Люди заметались как мыши. Вопли, визг, плач. Какое-то безумие. Тут меня мгновенно осенило. Вспомнила рассказ из детской книжки, как охотник упал, притворился мертвым, и медведь его не тронул. Я так и сделала.
Когда совсем стемнело, стрелять перестали, крики и стоны немного стихли. Смотрю — дитя живое.
Анна Красноперко:
Асю Воробейчик и меня схватили во время облавы. Налет, как всегда, неожиданный, внезапный. Бросили в машину, повезли. Куда везут? На тот свет? Крепко держимся за руки. Не раз договаривались с ней: если поведут на расстрел, либо падать, либо бежать.
Привезли нас быстро. Выгрузили, пересчитали. Осматриваемся и видим: мы во дворе Дома правительства. Когда-то говорили, что архитектор, по чьему проекту построено это здание, был им недоволен. Считал, что дом некрасив. Мы и раньше не разделяли это мнение. А теперь глядим не наглядимся.
Но спохватываемся. Теперь в нем они, звери. Такие, как этот, большой, с рыжими глазами. Он стоит перед нами, помахивая плетью. Потом подзывает меня с Асей и что-то приказывает. Мы не понимаем. Он кричит, хлещет плетью у наших ног. Мы пугаемся. Он смеется. Потом показывает на рулон рубероида, лежащий на земле. Догадываемся — приказывает поднять его. Ничего не получается. Немец хлещет плетью по рукам. Вздуваются кровавые полосы, ужасная боль. Что делать? Как же мы, две слабые девчонки, можем поднять такую огромную тяжесть?
Я берусь спереди и пробую взвалить проклятый рулон на плечи. Ася пытается поднять сзади. Рулон не поддается.
Слышу пронзительный крик, оглядываюсь — Ася лежит с окровавленным лицом. Бросаюсь к ней.
— Zuruck! (Назад!)
Я все же подбегаю к подруге.
— Он меня… плетью по голове…
Я вызволяю Асю из-под рулона. Ее сводят судороги. Она поднимает на меня светлые глаза. Мы прижимаемся друг к другу. Снова свистит плеть..,
С этой поры Ася заболела падучей.
Быт гетто складывается из сотен мелочей, он чрезвычайно чуток к моментально меняющейся обстановке. После августовских облав начинается повсюду сооружение потайных убежищ— «малин», как их здесь называют. «Малины» гарантируют сохранение жизни, и потому люди исхитряются как могут. Фантазия их не знает предела.
Одни строят тайник в чуланах, на чердаках, маскируя их всевозможными способами. Другие роют норы в погребах. Некоторые делают двойные стены. «Малины» прячут одну-две семьи, иногда больше. Местонахождение их тщательно скрывается. От сохранения тайны зависит многое, если не все. Это сознают даже дети.
Немцы и полицаи, вламываясь в пустые квартиры, неистовствуют, но редко находят убежища.
А беда подстерегает со всех сторон. Иногда она приходит оттуда, откуда ее никак не ждали.
Анна Мачиз:
Такое мое счастье: в один день натолкнулась на обоих.
Серебрянский вынырнул из-за угла вместе со своими подручными и вырос передо мной. Бежать было поздно. Я обмерла. Хотя и знала, что он в гетто и такая встреча может произойти, внутренне оказалась к ней не готова. Естественно, не подала виду, что знаю его. Он тоже вздрогнул и отвернулся.
Зяма Серебрянский когда-то до войны жил недалеко от нас, наши матери были знакомы. И надо же случиться: я, следователь Прокуратуры Белоруссии, участвовала в процессе над ним и над его братом. Речь шла о растрате государственных денег. Братья пытались через мою маму уговорить меня помочь им избежать суда. Из этого, разумеется, ничего не вышло
Освободился Серебрянский после отбытия наказания за пять дней до начала войны. В гетто он командовал еврейской службой охраны порядка. По малейшему поводу переходил на крик, размахивал палкой или плеткой — оружия ему и его «оперативникам» не полагалось. И вот ему-то я, коммунистка, бывший следователь, попалась на глаза.
Ладно бы этим день кончился. Так нет же. Увидел меня во дворе дома еще один тип, мною ранее судимый, и тоже за растрату, — кассир Монисов. Его я, впрочем, опасалась куда меньше Зямы: возможности у него не те, мы с ним в одинаковом положении.
В доме у меня переполох, суета. Куда бежать от Серебрянского, где прятаться? Пока судили-рядили, пришла знакомая девушка, бывшая студентка юридического факультета, проходившая когда-то у меня практику. Отозвала меня в сторону. «Я к вам, Анна Семеновна, от Серебрянского. Просил передать — он ни в коем случае не злоупотребит своей властью, а если у вас возникнет нужда, чтобы дали ему знать, он поможет, так как он советский человек и не собирается мстить».
Вот как обернулось.
Уже позже узнала: Зяма установил связь с подпольщиками гетто, помогал партизанам, передавал в отряды одежду и оружие. Он подсказывал людям, когда ожидаются «акции», так что многие успевали спрятаться. А злобный вид был не более чем маска.
А вот от Монисова натерпелась… Шастал по домам, вынюхивал, всюду разыскивал меня. Каждую ночь вынуждена была скрываться в новом месте. Потом донес в СД. Пришел запрос в юденрат: где находится Мачиз? Доставить ее в гестапо. Покопались в картотеке и ответили: «В списках не значится». Дело в том, что я при регистрации в юденрате записалась девичьей фамилией.
Что было дальше? А дальше Монисов попал в облаву и погиб. И я перестала прятаться.
Такое оно, гетто. Одни и под страхом смерти остаются порядочными, другие на краю гибели пытаются счеты свести. Общая беда, конечно, сплачивает, но она же и разъединяет — правде надо смотреть в глаза. Кое-кто только о своей шкуре начинает заботиться, низкие инстинкты вылезают наружу…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
А люди плакать разучились. Всем немного
совестно и как-то странно.
И. Эренбург
Он мог совершенно спокойно произнести во время обеда между супом и овощным кушаньем; я хочу уничтожить евреев в Европе. Эта война есть решающая схватка между национал-социализмом и мировым еврейством. Что-то из них будет уничтожено, но это определенно будем не мы…
Из воспоминаний о Гитлере нацистского преступника Шпеера
В гетто продолжалась жизнь, вернее не жизнь, а нечто такое, чему нельзя было дать определения, неволя особого рода, рождающая безысходность. И однако многие стали задавать себе простой до очевидности вопрос: как себя вести, чтобы не быть уничтоженными? Сидеть сложа руки и ждать неизвестно чего, вздрагивая от каждого шороха, панически забиваясь в «малины» при малейшем намеке на появление немцев?
По одним данным, в гетто находилось около трехсот коммунистов и комсомольцев, по другим — значительно больше. Разве дело в количестве? Иные из них все силы направили на то, чтобы скрыть свое партийное прошлое. Таких ведь гестаповцы вылавливали и беспощадно уничтожали. Еврей, да еще коммунист — это, по их понятиям, слишком много для того, чтобы позволить продлить существование хоть на один день. Другие внимательно присматривались к окружающим. Исподволь, подспудно зрело сопротивление.
Борис Хаймович:
По натуре я человек решительный, привык действовать, а не мусолить — надо, не надо. То в мирной жизни. А в гетто приходится каждый свой шаг сто раз обдумывать, анализировать. Любая ошибка, малейший просчет — и конец. Горький опыт учит, осторожность необходима.
Научен и я им, опытом. В Дроздах стали делить гражданских на евреев и неевреев, решил я к неевреям прибиться, полагая — их долго держать в лагере не будут. Так один тип, работали мы вместе в Белостоке, побежал доносить на меня фашистам. На махорку польстился — немцы объявили, кто выдаст замаскировавшегося еврея, пачку махорки получит Или просто подлец оказался. Хорошо я вовремя сориентировался: нырнул под канат и затерялся среди отобранных евреев.
Доверять в такой обстановке можно только тому, кого знаешь как себя. Вот мы и решили собраться, несколько белостокских коммунистов, волею судеб попавших в гетто. Квартира надежная, на дворе устанавливаем дежурство, на всякий случай. Дума у нас одна — организовать подполье.
Яша Киркаешто до войны отделом пропаганды заведовал в Белостокском горкоме партии, парень что надо. Меер Фельдман — подпольщик со стажем, в Западной Белоруссии работал. Евсей Шнитман — мой добрый товарищ, с которым Дрозды пережили, тоже, как и я, директор текстильной фабрики. Не всех называю, есть и другие партийцы, с которыми уже в гетто познакомился.
Начинаем совещание наше. У кого какое мнение по созданию подполья? Молчат все смущенно, организация без руководителя, печатного органа, связей с людьми, в условиях гетто, где каждый день траур, — реальна ли она? Беру инициативу на себя. Подполье нужно не ради подполья, говорю, а с целью выйти самим и вывести других из гетто, достать оружие, вступить в партизанские отряды для борьбы с ненавистным врагом. Нет печатного органа — не беда, можно писать листовки от руки. Нет связей — наладим, нашли же мы друг друга.
— Раздобыть бы радиоприемник и сообщать населению правду о положении на фронте.
Молодец Киркаешто, дельная мысль.
— По почерку могут обнаружить автора листовок. Неплохо на пишущей машинке размножать.
— Фельдман прав. Значит, понадобится машинка. Итак, наши главные задачи. Первое — создать хорошо законспирированное подполье. Второе — связаться с коммунистами вне гетто. Третье — раздобыть оружие. Четвертое — найти действующих партизан и начать выводить людей в лес. Пятое — вести агитацию среди узников гетто.
Появилась организация, зовущая к борьбе. Шел конец августа сорок первого.
В нее вливались новые и новые люди. Стихийно возникали подпольные группы. Главный принцип отбора — полное доверие. Объединялись соседи, друзья, коллеги по довоенной работе. Руководители групп искали связи, нащупывали, находили друг друга. Поддержка, взаимовыручка становились необходимой, неотъемлемой частью совместных действий.
Руководящий центр возглавили Яков Киркаешто, Натан Вайнгауз, Ефим Столяревич (подпольная кличка Гирша Смоляра). Комсомольцев организовала 20-летняя Эмма
Родова. Она стала хранительницей всей сети связей, челноком между гетто и городом.
Абрам Туник:
Нечаянная радость — встретил Вайнгауза. Нашего Нотке, как все его зовут. Жили когда-то давно, до войны, неподалеку. Он был редактором еврейской газеты «Юный ленинец», я печатался в ней. Нотке Вайнгауз. Приземистый, плотный, подвижный, как ртуть, живчик, темная вьющаяся шевелюра с седыми колечками (это у него, говорят, после тюрьмы). Не лишен, правда, бравады, обожает шум, треск, тарарам, но такой уж он человек. Любят его все, особенно молодежь, он ее. кумир. Вечно ходил с ребячьими ватагами, распевал песни.
Нотке мне.
— Абраша, ты, кажется, электрик? А в приемниках разбираешься?
— Немного разбираюсь.
— Нужен приемник. Позарез.
Не стал я выпытывать, кому нужен и зачем. И так понятно. В городе висело объявление — всем сдать радиоприемники. Склад расположился в зале оперного театра. Я устроился туда чернорабочим. Присмотрел неплохой аппарат. Как вынести? Он внушительных размеров, в карман или за пазуху не положишь. Сунул в мешок, обложил щепками — и на плечо. Немец у ворот: «Что несешь?» — «Щепки и немного угля для печки. Впрок». Дал он мне пенделя, и я прошел в гетто
Назавтра рассказал о приобретении Вайнгаузу. Тот обрадовался, как ребенок.
— Где хранить будешь?
— Не знаю. Пока на чердаке. Дом у нас большой, несколько семей живет. Народу много, боюсь засыпаться.
Один печник, которому я не побоялся открыться, нашел выход. «Я сделаю фальшивый лежак» А ведь здорово придумал! От русской печки и от голландки шли два лежака к общему дымоходу. А он соорудил третий лежак, фальшивый.
В нем я и замаскировал приемник, а антенну вплел в бельевую веревку.
Теперь дело за батареями. Скульптор Бразер, я знал его, взялся помочь. Принес четыре батареи и наушники в придачу. И заработал приемник.
Нотке стал записывать сводки Совинформбюро, передовицы «Правды». Писал он очень быстро, строчил как автомат. Потом мы размножали тексты от руки, распространяли в гетто и в городе. Машинку бы пишущую…
Появилась и машинка. Украл ее в жандармерии Квятковский, тезка мой. Ходил туда с колонной из гетто выгружать уголь. Кочегар-военнопленный помог, вдвоем они
Сбомбили (одно из популярных слов лексикона гетто) машинку.
Сколько мог продержал приемник у себя. Стало небезопасно. Соседи косятся: чем это он с друзьями на чердаке занимается? Я — к Борису Фунту, приятелю, живущему по соседству: «Выручай». Тот: «Ты не один, еще с кем-то слушать будешь?» — «Не один».— «Абрам, там, где трое, секрета нет».— «Ты что, Боря, Вайнгаузу не доверяешь?» — «Нотке? Тогда другое дело».
Перенесли приемник к Фунту на чердак. Оттуда— к Хонону Гусинову, в подземное укрытие.
Гибли люди, лучшие люди. При передаче листовок в городе был схвачен Фунт, расстреляли Гусинова. А приемник и машинка существовали, переходили из рук в руки, и голос Москвы звучал в гетто, вселял в узников стойкость и веру.
Приемников в гетто было несколько. Слушали Большую землю и члены подпольной группы Хаймовича. Один аппарат прятали в доме Нади Рудицер на Ратомской. Дом стоял удобно — над глубокой ложбиной (так называемой «ямой», где сейчас памятник пяти тысячам погибших евреев.— Д.Г.) К нему не так просто было подобраться немцам.
Рудицер — и девичья фамилия Нади, и ее фамилия по мужу, такое совпадение. У мужа был близкий друг — Абрам Релькин, он попал в Дрозды. Надя принесла ему туда вместе с передачей свое платье. Абрам переоделся и в женском платье ушел из лагеря. Таким же образом Надя вывела еще несколько человек. Причем Релькин помогал ей, совершая свои походы в Дрозды в том же платье — с тонким, нежным лицом он легко сходил за девушку.
Надя и Абрам записывали сводки из Москвы. Вскоре к ним присоединился Яков Песин. Добытые приемник и машинку установили на чердаке его дома на Подзамковой. Лучшего места не придумать, дома там стояли впритык, на чердак Песина можно было попасть, только минуя три соседних чердака, отгороженных один от другого. При облавах приемник и машинку успевали спрятать.
В гетто и за его пределами сведения с Большой земли распространяла Дина Бейненсон. Пролезала под проволокой, снимала латы — ив город. Смерть ходила за ней по пятам…
В сарае дома Рольбиных (Евель Рольбин возглавлял еще одну подпольную группу) было оборудовано несколько тайников. В один из них, самый большой, вел ход через кафельную печку-голландку. В тайнике имелся приемник. Сын Рольбина, шестнадцатилетний Михаил, перепечатывал сообщения на машинке, украденной Ароном Фитерсоном, и не где-нибудь — в самом юденрате во время обеденного перерыва. Ну и был тогда переполох: пропала лучшая машинка! Но большой шум поднимать побоялись, немцы за пропажу взгрели бы.
А тем временем еще одна группа занялась и вовсе, казалось бы, невозможным в условиях гетто — устройством нелегальной типографии.
Елена Майзлес:
— Все понимают, на что идут? — спросил Наум Фельдман, руководитель группы.
Еще бы не понимать. Уже сам выход за проволоку в город пахнет расстрелом. Правда, тут еще можно попытаться подкупить полицая или немца, смотря кому попадешься, придумать что-нибудь, отвертеться — немало таких случаев. Но если пойман со шрифтом…
В группе нашей в основном бывшие печатники типографии имени Сталина, до войны самого крупного полиграфического предприятия Белоруссии. Технический директор
Чипчин, начальник литографического цеха Окунь, наборщики Опенгейм, братья Капланы, Прессман… Немцы их по специальности используют, в своей типографии «Прорыв». Рядом — военнопленные. Один из них, Андреем Ивановичем назвался, как-то подходит к Иосифу Каплану и предлагает помочь вынести шрифт в гетто, чтобы наладить выпуск листовок. К таким предложениям обычно относятся с недоверием — похоже на провокацию. Мы не дали ответа. Ждем. Дня через три приносит картошку. Дорогой подарок. Посовещались мы с нашими и решили рискнуть.
В начале сентября Фельдман и я встречаемся с Андреем Ивановичем (потом выяснили — настоящая его фамилия Иванов, Николай Иванович). Раз, другой. Обо всем договариваемся. Каплан подключает жену знакомого журналиста Глафиру Суслову.
Шрифт выносится так. Андрей Иванович и трое его друзей скрытно заходят в подвал типографии, набивают шрифтом небольшие пакетики и прячут их за пазуху или в карманы. Заканчивается рабочий день, колонну ведут в гетто, они вместе с евреями выходят незамеченными за ворота. Аусвайсы у них имеются, но попадись они на улице патрулю, который захочет их обыскать…
Шрифт прячут у Сусловой в сарае среди торфяных брикетов. К ней приходят связные из гетто и забирают пакетики. Просто. Смертельно просто.
Связные наши — отчаянные ребята Миша Ароцкер, Марк Бразер — сын скульптора, Давид Герциг по кличке Женька.
Шрифт доставляют и наши печатники. Иногда прячут его на татарских огородах, и комсомольцы потом приносят ко мне и Окуню.
Очень удобно располагается «Прорыв»: за типографией течет Свислочь, рядом мост, начинаются огороды, в конце которых — гетто. Это облегчает доставку шрифта.
Выносятся в разобранном виде и части печатного станка, наборная касса.
И заработала типография! Под носом у немцев, на Немиге, в подвале дома номер восемь. Отвечал за нее Михаил Чипчин. Наладили выпуск периодического листка «Вестник Родины». Маленького формата, он вмещал в себя сообщения с фронтов, обращения партизан к населению Минска… Удалось Чипчину набрать и сверстать отдельной брошюрой доклад Сталина о 24-й годовщине Великого Октября.
Листовки расклеивались по городу. Их жадно читали в гетто. Они свидетельствовали о том, что мы не смирились со своей участью, мы боремся.
Израиль Лапидус:
Возвратясь в Минск после скитаний по лесам, проселкам, болотам, я мечтал об одном — наладить связь с подпольщиками.
На поиски такой связи времени мне было отпущено, прямо скажем, скупой мерой. В городе меня многие знали: как-никак бывший инструктор обкома партии. Имевшиеся при мне документы — партбилет, удостоверение обкомовского работника и газета с речью Сталина от 3 июля — также требовали решительных действий: долго с ними не проходишь, до первой облавы. И я в первые же часы пребывания в Минске направился домой к старому товарищу, видному партийцу, честнейшему человеку.
Выбор на него пал не случайно. В тридцать седьмом его оклеветали, приписали ему службу в контрразведке какой-то белой армии, не то Колчака, не то Деникина. А на самом деле он был начальником контрразведки одной из дивизий Красной Армии. Вот так. Исключили его из партии. Позора он не вынес, пытался покончить жизнь самоубийством. Выстрелил в висок, но невероятным образом уцелел, только ослеп на оба глаза.
В итоге (редчайший случай!) моего товарища восстановили в рядах партии и приняли на работу преподавателем истории ВКП(б).
«Бывший начальник контрразведки деникинской армии», «жертва большевистского террора»… Чем не находка для гитлеровцев, которые наверняка попытаются использовать его в своих целях. А ему и карты в руки — лучшей возможности вести подпольную работу и не придумать.
А может, он эвакуировался с женой и детьми? В общем, выбора у меня не было и, ведомый верой в составленную неуемной фантазией красивую легенду, я пошел на квартиру, где бывал не раз.
Жил мой товарищ в центре города. Поднимаюсь по лестнице, останавливаюсь у знакомой двери, звоню. Слышу щелчок замка, дверь бесшумно открывается, и в образовавшемся проеме появляется немецкий офицер. Он скользит по мне взглядом, бурчит что-то невнятное, вроде «пошел вон», и захлопывает дверь.
Я замираю с вытянутой вперед рукой. И тут же начинаю понимать — спасла меня именно рука, приготовившаяся пожать руку друга. Немец принял меня за нищего, просящего подаяние.
Я был ошеломлен не столько тем, что увидел, сколько своей легкомысленностью: до чего же по-детски мне захотелось увидеть желаемое в действительности.
Потом я узнал, мой товарищ с женой и сыном, как и многие, пытался уйти из Минска. Они пошли по Могилевскому шоссе, дошли до Смиловичей. Но в тот же день там оказались немцы. Предатели выдали фашистам моего друга. Его и членов его семьи повесили.
Придя в себя, я черным ходом вышел во двор и по какой-то кривой узкой улочке стал спускаться вниз к Немиге. Короткий слякотный день близился к концу, сгущались сумерки, приближался комендантский час. Появились усиленные патрули.
Что делать? Куда идти?
Приходит простая до очевидности мысль: в гетто, о существовании которого я уже знал. Да, пока в гетто. Может быть, там и моя семья? Там я наверняка найду соратников по борьбе.
Пока я размышляю, навстречу попадаются два полицая. На узком деревянном тротуаре уступаю им дорогу. Не успеваю с облегчением вздохнуть, как слышу сзади:
— Эй, ты!
Останавливаюсь, поворачиваюсь к полицаям.
— Ты хто такий?
— Я? — спрашиваю с удивлением.
— Не, не ты, гэта, можа, я сам у сябе пытаю, —в тон мне разъясняет высокий молодой усатый полицай. — Адказвай, а то я зараз растлумачу, хто у каго пытае! — говорит он теперь уже с угрозой и снимает с плеча карабин.
— Ня трэба разъяснять. Я Хасан! Хасан я. Xi6a не ведаете?
— Якi ты Хасан, што цябе усе павшны знаць?
— Каму трэба, усе i знаюць Кананацкага Хасана, — говорю и подаюсь всем корпусом вперед, придерживая в кармане пистолет.
— Якi тэта Хасан? — спрашивает усатый полицай у безусого.
— А ну яго к чорту, мабыць, i сапрауды не трэба з им звязвацца, пойдзем, а то спазнiмся, — зовет безусый полицай усатого. Тот плюет сквозь зубы и кричит:
— Дык чаго ты тут шляешься, свиное вухо? А ну бяжы адсюль бягом, татарская морда! — И карабин на изготовку.
Ко всему я внутренне готов: к тюрьме, допросам, пыткам, готов погибнуть в открытом бою, но чтобы убили вот так, как бродячую собаку, с веселым гоготом? Нет, не выйдет у вас, фашистские прихвостни!
Из всего того, что пришлось видеть и пережить, я еще раньше сделал вывод: если человек сам себя уже приговорил к смерти, он непременно погибнет в ближайшей встрече с врагом. А я не хочу погибать, я хочу участвовать в борьбе!
Делаю рывок в сторону, в открытые ворота какого-то двора, еще рывок — угол сарая, сад, забор. Выстрел и смех. Все позади.
Опять улочка круто спускается вниз к проволочному заграждению. Оно уже мне знакомо. Это гетто.
Темнеет. Начинается дождь со снегом или снег с дождем — все едино.
У колючей проволоки стоит женщина. В темноте трудно разглядеть ее лицо.
— Здравствуйте, — говорю шепотом.
Женщина вздрагивает, оглядывается:
— Здравствуйте…
— Не знаете, как пройти туда? — показываю в сторону гетто.
— Здесь можно. Но сейчас уходите, уходите… — И падает на землю.
Падаю вслед за ней. Приближаются тяжелые шаги патруля. Женщина шепчет: «Бежим», — и пытается подняться. Прижимаю ее к земле: поздно. Достаю пистолет. Полицай почти над нами. Нажимаю на спусковой крючок. Выстрел. Полицай вскрикивает, падает, корчится, ругается, стонет. Еще одна пуля успокаивает его навсегда.
Женщина потрясена, вся дрожит, слышно, как зубы клацают.
— Бежим быстрее, — она тянет меня за руку.
— Нет. Надо спрятать его, иначе встречный патруль тревогу поднимет.
— Здесь недалеко канализационный колодец, — подсказывает женщина.
Спускаем полицая в колодец и закрываем крышкой.
Так я пришел в гетто.
Меня ждала огромная радость — я нашел свою семью. Жена и сын не чаяли увидеть меня живым, а я, если признаться, — их. Жена рожала в гетто, новорожденный вскоре умер, я его так и не увидел.
Здесь я, как и ожидал, встретил хороших знакомых. Меня связали с руководящим центром подполья, и я включился в работу. Но с самого начала пребывания за проволокой сказал себе веско и твердо: при первой возможности надо уходить в лес, к партизанам, и не одному, а с группой подготовленных вооруженных людей. Наше место — в рядах мстителей, а не узников.
Одним из тех, к кому особенно тянулись в гетто, был Натан Вайнгауз. Уехав из Белоруссии в Биробиджан укреплять Еврейскую автономную область, руководитель тамошнего радиокомитета вернулся домой незадолго до начала войны. Сопутствовали этому сложные обстоятельства.
В июле тридцать восьмого Натан Вайнгауз, его коллега по радиокомитету писатель Григорий Добин и Гольденберг — редактор газеты «Биробиджанер штерн» были арестованы как враги народа. Их обвинили в шпионаже. Все трое якобы мечтали о воцарении в Биробиджане японского императора. Около села Михайло-Семеновско,е был крохотный мостик через речку, которую и курица могла перейти. Так вот они хотели взорвать этот важный стратегический объект.
В камерах тюрем Биробиджана и Хабаровска, где время коротали в бесконечных дискуссиях, спорах, выяснении истины, на ночных допросах ими владела только одна мысль: можно ли поверить в то, что кругом сплошные враги народа и они сами из их числа? Испытывая смятение, они заглядывали в себя, как в глубокий колодец, всматривались в свое отражение, снова и снова адресовали себе жесткие, беспощадные слова, сказанные следователем, и мысленно слышали глухой ответ: в это нельзя поверить.
Вайнгауз был впечатлителен, нервен, быть может, слишком открыт, легко сходился с людьми. Его всегда окружали друзья, никто не называл Натаном, все звали Нотке. И вот он в мышеловке. Что делать, как вести себя невиновному, которого обвиняют?
Бывший аппаратчик с пеной у рта доказывал в камере: кругом царят произвол, преступная самодеятельность, товарищ Сталин не знает о массовых арестах, о наветах и поклепах, возводимых на кристально чистых, преданных партии людей, тем более в Биробиджане, за тысячи верст от Кремля, на краю света. Надо написать в Москву коллективное письмо и любой ценой постараться передать его на волю.
Находившийся под следствием военный из Особой Дальневосточной армии Блюхера отстаивал свою позицию: во всем том, что происходит, есть своя логика и своя правда. Грядет война, испанские события показали: схватка с фашизмом неизбежна. Народ должен освободиться от накипи и мути, стать монолитно крепким, единым. При этом совершаются ошибки: вместе с врагами и контриками берут людей ни в чем не замешанных, ни в заговорах, ни в предательстве. Лес рубят — щепки летят.
Ученый, которого забрали прямо с его лекции по истории ВКП(б), возражал обоим. Не может столица не знать, что делается повсюду. Полгода назад он гостил в Ленинграде у брата. У того в институте треть специалистов посадили, все на виду, открыто. В газетах пишут: там враги, тут шпионы… И не в том дело, что единство государства укрепляется. Доносчиков, сексотов развелось точно мух — вот в чем причина. Добровольных и подневольных. Одного битьем заставляют на товарищей клеветать, второго страх гипнотизирует, третий свой долг выполняет, как партия учит, четвертый просто темен и сер. «Разве нас с вами не принуждают на допросах на других показывать, а? — спрашивал он. — То-то. Идут доносы, тысячами, может, миллионами, и забирают людей пачками…»
Голова шла кругом от всего этого. Вайнгауз и двое его товарищей не все понимали, не всему верили, колебались и сомневались вместе с другими, но ни на мгновенье не пошатнулась в них вера в то, ради чего они жили.
Через два года их освободили. Вернули партийные билеты. Вайнгауз и Добин уехали в Белоруссию: Натан — в Минск, где жила его семья, Григорий — в Белосток.
И вот попали за проволоку в гетто.
Все их мысли были об одном: скорее найти выходы на подпольщиков Минска и партизан. В начале ноября первая радость. Вездесущий Герциг (подпольная кличка — Женька) сообщает: с подпольщиками хочет увидеться товарищ из города. Отряжают на встречу Столяревича (Смоляра). Проникнув за проволочное ограждение и сняв латы, Женька и Столяревич идут на Обутковую улицу (она на границе с гетто). В условленном месте их ждет человек, назвавшийся Славкой.
Славка — подпольная кличка Исая Павловича Казинца — еврея по национальности. Он активно участвовал в создании подпольной организации в Минске, возглавлял так называемый допартком — дополнительный партийный комитет. Казинец и его соратники сделали немало: наладили деятельность подпольных звеньев («десяток») и групп, установили связи с железнодорожниками, рабочими ряда предприятий города, помогли в создании подпольной типографии, где в основном трудились печатники-евреи, вышли на связь с партизанскими отрядами.
Славка неоднократно бывал в гетто, встречался г его представителями.
В конце марта 1942-го Казинца и нескольких его товарищей арестовали. Аресты продолжались и в апреле. Исая Павловича страшно пытали. Можно только догадываться, какие муки он вынес. Его повесили 7 мая 1942 года в Центральном сквере Минска. Последние слова Казинца были: «Да здравствует Красная Армия!»
8 мая 1965 года, то есть через двадцать три года и один день после гибели, Казинцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица столицы Белоруссии.
Его интересуют два вопроса: по чьей инициативе создан руководящий центр подполья и что он намерен предпринять? Славка полностью соглашается с Ефимом: надо выводить боеспособных мужчин в партизанские отряды.
Кое-какая связь уже наметилась. В сентябре в гетто пришел посланец из леса. Фамилии своей не назвал, сказал только: круглый сирота, детдомовец, еврей, зовут Федя.
Провели его в котельную инфекционного отделения больницы, служившую своего рода явочной квартирой. Федя скинул куртку и сразу превратился в шустрого бойкого хлопца. Хлопец этот вмиг посерьезнел, едва речь зашла об отряде. Рассказывал, приходится быть постоянно в движении, не хватает оружия, теплой одежды, медикаментов. Трудности велики, отсюда вывод: пополнение из гетто должно быть крепким, стойким, желательно с военной выучкой.
Отослали с Федей письмо его командиру, в котором сообщали: гетто готово предоставить в распоряжение отряда все свои наличные силы. Как только командир даст знать, он тут же получит все, вплоть до оружия. Есть немало людей, готовых при первой же возможности уйти с этим оружием в лес.
…Почему одни люди осыпаются на дно мелким песочком, а другие встают поперек течения неповоротным камнем, который оно, течение, если хватает сил, безжалостно сносит, а если не хватает — вынуждено обтекать со всех сторон, мириться с его существованием? Нет ответа. В условиях гетто осыпаться песочком, тихо лечь на дно означало верную гибель, и только борьба, только попытка встать поперек беспощадного течения могла дать шанс выжить и спасти других. Многие боролись. Назову лишь нескольких.
Яков Киркаешто. Бывший беспризорник из молдавского местечка, босяк, воспитанник Одесского «Еврабмола» — Дома еврейской рабочей молодежи, он научился тачать сапоги, потом пошел учиться, окончил в Москве курсы пропагандистов при ЦК…
Гирш Смоляр. Журналист, умница, проницательный, всему знающий цену. И как мало заботился о себе… Иногда товарищи чуть ли не силой засовывали ему в карман кусок хлеба — ведь он тоже голодал. А Гирш отдавал хлеб первому встретившемуся ребенку. Редко какую ночь он проводил в одном месте. В котельной больницы была его явочная квартира. Относительно безопасная: немцы панически боялись заразы и туда носа не совали.
Эмма Родова. Бывшая работница райкома комсомола, молчаливая, замкнутая, немного даже отчужденная, совсем еще девчонка, но прирожденный конспиратор, она признавала только точный, строгий, ясный язык приказов, никакой лирики. Голодала, питалась картофельной шелухой, но попробовал бы кто-нибудь предложить ей помощь — разобидится.
Давид Герциг, по кличке Женька. Связной, жил по поддельному паспорту в городе. Ловчее его вряд ли кто проникал в гетто и выходил из него.
И если уж погибали, то так, как Киркаешто. В одно из воскресений он участвовал в
конспиративной встрече, уходил огородами и нарвался на полицейских, прочесывавших дворы в поисках мужчин. Его окликнули. Мог бы, наверное, рвануться обратно, попытаться спрятаться в «малине» дома, где только что разговаривал с товарищами. Но он поступил иначе. Помнил требование, предъявленное подпольщиками самим себе: в случае ареста, провала живыми не даваться. Побежал в противоположную сторону — отводил от места, где остались товарищи. И не стало Яши… Вместо него ввели в состав руководящей тройки Михаила Гебелева, бывшего работника Сталинского райкома. С виду улыбчивый, добродушный, но в голубых глазах нет-нет да и полыхнет отчаянная решимость. Такого, как речной валун, не сдвинуть с места никакому течению.
Думая о них, невольно приходишь к убеждению, что понятия добра, порядочности, самопожертвования — абсолютные, они не обесцениваются в зависимости от ситуации. Например, в ваш дом пришла соседка и попросила килограмм муки или каравай хлеба. В обычное время дали бы и забыли. А если война, если собственные дети кричат от голода, поделитесь мукой или хлебом? Делились. И это было высшим проявлением, мерилом человечности. Делились действительно последним. Не все, разумеется, но многие, очень многие, ибо так и не смогли фашисты вытравить из людей человеческое.
А портить на кожзаводе материалы и сшитую для немцев одежду — разве это не мужество в условиях гетто? А забивать им в обувь гвозди? А в авторемонтных мастерских подсыпать в масло наждачный порошок, чтобы плавились подшипники моторов? А выносить с немецкого оружейного склада затворы, подающие механизмы, магазинные коробки, ленты с патронами к пулеметам? А собирать лекарства, марлю, бинты, телогрейки, ватные штаны, сапоги, валенки для будущей отправки в партизанские отряды? А выдавать подпольщикам поддельные справки о болезни, спасать их в больнице от гестапо? А изготавливать поддельные паспорта? Разве для всего этого не требовалась сила духа?
Натан Вайнгауз попал в погром 20 ноября 1941-го. У него начинался тиф. Внезапно нагрянувшие гестаповцы стащили его с кровати, и он разделил участь нескольких тысяч узников, расстрелянных в тот день. Погибла и его семья.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Средь множества скорбей, средь подлости и горя,
Когда разбой и мрак вершат свои дела…
Мартин Опиц {перевод Л. Гинзбурга)
…Мы должны развивать технику обезлюдивания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюдиванием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если я могу послать цвет германской нации в пекло войны без малейшего сожаления о пролитой ценной германской крови, то, конечно, я имею право устранить миллионы низшей расы, которые размножаются как черви!
Гитлер
Над гетто повисла тишина. Она пала внезапно, как темнота перед смерчем, впитала голоса, шорохи, скрип дверей и, казалось, накрыла территорию за проволокой непроницаемой звукоизолирующей оболочкой.
Можно было бы назвать установившуюся тишину мертвой. Но она была живой, ибо в домах существовали люди, которые настороженно прислушивались к внешним звукам, проникающим через стекла и приоткрытые форточки с улиц. Чтобы внятно, без задержки улавливать каждый звук — а от этого зависело многое — они невольно, не сговариваясь, повинуясь инстинкту, сжались и смолкли.
Тогда они еще не вывели для себя правило (оно сформулировалось потом и ни разу не обмануло): внезапная тишина всегда сопутствует «акции». Тогда по гетто будто нечаянно просквозил и обдал ледяным холодом слух — немцы что-то замышляют. Кто-то ссылался на верный источник в юденрате, кто-то что-то слышал в городе во время работы: немецкий и идиш во многом схожи. Слухи сходились в одном: фашисты не оставят в покое в
годовщину Великого Октября.
И еще один признак безошибочно указывал — быть беде. Внезапно из концлагеря на Широкой нагрянул помощник коменданта Городецкий, чернявый, статный, в кожане, до скрипа затянутом ремнями, как всегда, с улыбочкой на красиво вылепленных губах. Его, сына белогвардейки й прусского солдата, уже знали в гетто. Частенько врывался он сюда со своей ватагой. Избивал, насиловал, грабил. И всегда с улыбочкой. Хмурым его никто ни разу не видел.
На сей раз Городецкий не разбойничал, был по-деловому сосредоточен. Предъявил
юденрату список мастеровых, узнал, кто где живет, обежал дома, забрал нужных ему людей и увез с собой в лагерь. Туда же перебралась часть юденратовцев..
Мало кто в гетто спал в эту ночь. Забившись в «малины», судорожно прислушивались, как там, на улице?
На рассвете 7 ноября в гетто въехали большие черные закрытые машины. Следом прибыли полицейские и гестаповцы. И началось… Оцепив часть улиц (Республиканскую, Островского, Немигу, Шевченко, Хлебную и некоторые другие), ворвались в дома, повыгоняли всех и начали погрузку. Набивая машины до отказа, вывозили людей за город, в Тучинку, в старые бараки, и возвращались.
Весь день курсировали машины из гетто в Тучинку. В бараках в неимоверной тесноте и духоте скопилось тысяч двенадцать народу, никак не меньше. Их держали много часов без еды и воды, а потом расстреляли у заранее вырытых ям. Никому из тех, кто попал в лапы гестаповцев, не удалось спастись. Впрочем…
Рива Боришанская:
Жили мы большой семьей на улице Островского, в доме на втором этаже. Спрятались в «малине». Собственно, «малиной» назвать это было трудно, угол комнаты отгородили шкафом, за ним и скрывались. Первый раз немцы нас не обнаружили, второй их приход оказался роковым.
Никогда не забуду сапоги гестаповца, поднимавшегося по наружной металлической лестнице. Они и сейчас у меня перед глазами — зловещие, несущие неотвратимое…
Согнали нас всех в колонну недалеко от хлебозавода. Передним дали флаги — праздник ведь. Фотографировали. Потом начали отбирать нужных мастеровых — фахарбайтеров, заталкивать их в ворота хлебозавода. Мама бросилась со мной туда. Ее выгнали, а я, будучи маленького роста, несмотря на свои пятнадцать лет, уцепилась за какого-то мужчину и вместе с ним незамеченной попала в спасительные ворота.
Колонну со знаменами погнали вперед, а нас поставили на колени. Долго выдерживали на холоде…
Вернулась я домой — из-под кровати дядя вылезает. Мы с ним вдвоем и остались живы.
Софья Коган:
Я осталась жива после первого погрома 7 ноября. Уже находилась в «черном вороне», но немецкий солдат высадил меня со словами, сказанными по-немецки, который я неплохо понимала: «У тебя голубые глаза и светлые волосы, таких евреек не бывает…»
Анна Красноперко:
Жуткую новость принесла Дина Голанд. Она услышала, что немцы оцепляют Немигу. Все поняли — начался погром.
Мрачной стариной пахнуло от этого слова — погром. Знали мы его по книжкам, по рассказам дедушек и бабушек.
И вот ожило зловещее слово.
— Надо скорее прятаться, — испуганно говорит Дина.
Мама озирается по сторонам.
— Где бабушка?
Ее нет, куда-то пошла.
Мама велит быстро собраться. Берегом реки крадемся к мосту. Без желтых меток, в платочках мы похожи на сельских жителей. Блуждаем по Торговой, по Бакунина мимо церкви.
— Пойдем к Тоне, может, пустят, — уговариваю я маму (Тоня — наша бывшая соседка).
Мама раздумывает:
— Они живут возле самого пекла… Сами напуганы…
Да, действительно, Тоня со своей мамой, Дарьей Степановной, живут на Школьной, у Немиги. Когда на той ее стороне, где гетто, убивали людей, Тонина семья все видела.
Нам некуда деться. Почему-то, как пришпиленные, бродим около гетто. Останавливаемся возле бани, поднимаемся к больнице, снова Торговая, снова Бакунина.
Идет дождь. Мы вымокли до нитки. Дрожим, ежимся от холода.
— Пойдем к Тоне, — прошу я.
Мама вспоминает добрую душевную Дарью Степановну, соглашается:
— Попросимся погреться.
Спешим туда, где живет Тоня. Стучимся в дверь. На пороге Дарья Степановна, Тоня. Страх, слезы в глазах…
Тонина мама молча захлопывает перед нами дверь. Долго в ушах стоит этот больно отозвавшийся в сердце грохот.
Это была первая из запланированных в гетто крупных «акций» по уничтожению населения. За ней последовала новая — 20 ноября. Немцы объяснили кому-то .в юденрате: «7-го план оказался недовыполненным».
20-го, однако, многим удалось уцелеть.
Евсей Шнитман:
Немцы учились распознавать наши «малины». Входя в дом, первым делом простреливали стены, потолки, полы. Что оставалось? Делать еще более надежные скрыты в самых неожиданных местах.
У меня с Хаймовичем родилась такая идея. В сарае хранился запас колотых дров, сложенных в два ряда. К сараю примыкал туалет, одна стена у них была общая. Мы оторвали три доски со стороны туалета, из внутренней кладки выбрали часть дров, образовавшуюся нишу укрепили кольями.
Пронесся слух: эсэсовцы опять готовят «акцию». Мы с Хаймовичем забрались в нишу. Еле втиснулись. Сидели, согнувшись, лицом друг к другу, в обнимку — иначе не поместиться. «Моя мать прибила доски на место. Так мы провели ночь на двадцатое ноября.
Забрезжило утро. Мы стали смотреть в щели — что происходит вокруг? Дворы были голые (заборы использовались на дрова), округа хорошо просматривалась. Примерно в десять часов со стороны Юбилейной площади показалась цепь эсэсовцев. В наш двор вошли два немца.
— Во зинд ди меннер? — спросили у моей матери.
— Нет мужчин, — ответила она на идиш, и немцы поняли.
Они обшарили углы, привычно постреляли по стенам и чердаку (это мы слышали и частично видели), заглянули в сарай и никого не обнаружили. Один захотел в туалет, открыл дверцу, другой остановил его, объяснив, что, по его мнению, еврейская уборная хуже цыганской. Они стали справлять нужду на ту стенку, за которой мы прятались.
Сердце у меня бешено колотилось, и я отчетливо слышал, как напряженно бухало сердце Бориса. В стене были довольно широкие щели, стоило немцам внимательнее посмотреть, и все. решила бы короткая автоматная очередь.
Беспомощное сидение «в малине» ускорило наше решение уйти в партизаны.
Григорий Добин:
Утро выдалось туманное, промозгло-холодное. Я поднялся и пошел на работу — числился сапожником в мастерской при украинском полицейском батальоне лагеря на Широкой. В мастерской, кроме сапожников, были портные. Туда нас ежедневно водили из гетто.
Вижу сквозь туман: какие-то люди образовали кордон. Немцы. Говорю: «Мне нужно идти на работу», — и показываю аусвайс. Эсэсовец: «Жена у тебя есть?» — «Есть», — отвечаю, хотя о жене своей после того, как осталась она с сыном в Белостоке, не имел никаких известий. «Иди домой, не надо идти на работу сегодня», — он сделал нажим на слове «сегодня».
Жил я на Замковой в семье Пикусов, отдавал им скудный паек — мастеровых немцы хоть как-то кормили. Состояла семья Пикусов из стариков-родителей, трех дочерей (одна замужняя с ребенком) и сына. Одну девушку, Иду, знал раньше: она была секретарем в редакции газеты «Октябрь». Она-то и приютила меня. Вернулся домой. Пикусы мне: что случилось, на тебе лица нет. Плохо, отвечаю, погром будет. Следом немец заскакивает: «Выходите все», — и гонит нас на площадь.
Площадь у Замковой кишмя кишит людьми. Кто с вещами, кто без вещей и даже раздетый. Вопли, стоны. Операцией руководят немецкие офицеры в красных шарфах на шее (шарфы кажутся кровавого цвета), участвуют полицейские-латыши. Пробую кинуться к полицаю и получаю удар прикладом. Немцы кого-то отбирают и уводят в сторону. Вижу там знакомого, вместе в мастерской работаем. Ага, смекаю, рабочих они хотят сохранить. Нужны мы им покуда.
Я к офицеру: так, мол, и так, имею аусвайс. Офицер читает справку, могущую служить пропуском, а мозг мой сверлит мысль: как помочь кому-нибудь из Пикусов? Как?!
Офицер в шарфе отдает справку.
— Жена у тебя есть? — повторяет вопрос, который час назад, мне уже задавал другой немец.
— Есть. — И показываю на Иду Пикус.
Немец отпускает нас. Я успеваю выхватить у сестры Иды ребенка, отдаю его все понявшей Иде, и мы выходим из оцепления.
Дарья Вапнэ:
Незнакомая женщина подходит ко мне и говорит абсолютно спокойно, рассудительно, мягко так, интеллигентно, точно вопрос ее касается сугубо бытовой темы:
— Извините, ради бога, как вы думаете: нас будут здесь расстреливать, на площади, или куда-то поведут колонной?
Я смотрю на нее как на умалишенную.
— Какое это имеет значение?
— Простите, пожалуйста, но мне кажется — имеет. Если нас поведут, есть шанс укрыться в какой-нибудь подворотне.
Для людей сам акт массового расстрела превращался во что-то обыденное, вызывая даже не страх, а нечто иное, чему я не могу дать определения. Вспомнила ту женщину — и спазм в горле.
Софья Гродайс:
В «акциях» мог выжить тот, кто боролся за себя и близких до последней минуты, до последнего вздоха. Что означало для нас, безоружных женщин, да еще с детьми, бороться, когда тебя гонят под автоматами на убой? Прежде всего не терять ясности ума, не поддаваться паническому страху, использовать любую возможность для спасения.
Меня вели на расстрел в колонне таких же обреченных. Многие покорились судьбе, шли понуря голову, с печатью смертного ужаса на лицах. Им уже ничем нельзя было помочь. Я же лихорадочно искала выход. Аусвайс свой (вынуждена была стирать белье в немецком штабе на Комаровской улице, чтобы не погибнуть с дочкой от голода) впопыхах оставила дома, когда всех выгоняли. Машинально ощупала карманы пальто и обнаружила ключи. Ключи от бельевой!
Я — к гестаповцу, начинаю ему объяснять на смеси идиш и немецкого: без этих ключей никто не сможет попасть в комнату, где хранится чистое белье для господ офицеров (будь они трижды прокляты). Понял меня гестаповец и вывел из колонны.
Абрам Туник:
Мы не успели спрятаться в «малине», эсэсовцы вывели нас из дома и сообщили: вас выселяют в другой город, берите с собой теплые вещи и ценности. Я им, конечно, не поверил.
Построили в колонну по десять человек и повели Я иду, мама, жена старшего брата с двумя детьми. Мама мне: «Можешь — спасайся». А жена брата с безысходностью: «Если суждено погибнуть, так всем вместе».
Подходим к улице Опанского. Край гетто. Если сейчас не бежать, потом будет поздно. Охраняют колонну полицейские из украинского и латышского батальонов.
Не одного меня мысли о спасении будоражат. Начинаем тихонько переговариваться, готовиться. Терять-то уже нечего. Повинуясь стихийному порыву, часть колонны бросается на стоящих ближе всех полицейских. Те от неожиданности размыкают цепь. Стреляют нам уже в спины. Прячемся где придется. Краем глаза вижу женщину, укрывшуюся на огороде в борозде, другие забегают в дома, сараи…
За мной вдогонку бросился полицай. Я стал петлять. Ему стрелять на ходу неудобно. Так мы с ним в беге и состязались. Я ловчее оказался, забежал в уборную, полицай след мой потерял. Переждал я минут пятнадцать, высунулся, и надо же — чуть ли не нос к носу с тем же полицаем столкнулся. Опять наперегонки пришлось…
Прибежал я к знакомой татарке Соне, попросил ее спрятать меня. Та сказала, что боится: если немцы меня обнаружат, ее и всех близких расстреляют В общем, отсиделся, отлежался на задах татарских огородов и ночью вернулся в гетто.
Анна Красноперко:
— Мама, — слышу я шепот своей мамы, которая обращается к бабушке, — надо спасать детей… Попробуем бежать на том повороте Держись за меня.
— Я не смогу, ноги не идут, — отвечает бабушка. — Спасай детей, беги с ними…
— Как же мы без тебя?
— Я не смогу. Спасай детей…
Мама велит мне содрать лату с груди. Сама сдирает с себя и с Инны. Со спины сдирать нельзя: увидят конвоиры, которые идут сзади.
Нас вывели за границы гетто. Гонят по улице Опанского. И вдруг по левой стороне улицы навстречу колонне движется подвода. Вот-вот поравняется с нами.
— Прыгайте на подводу.
Мама выпихивает нас из колонны. Мы вскакиваем на подводу, мама за нами. Селянин бешено гонит коня. Сзади суматоха, крики, стрельба. Выстрелы нам вдогонку. Но мы уже далеко от колонны. Срываем желтые латы со спины.
— Бегите! Спасайтесь! — кричит селянин.
Циля Ботвинник:
В самом начале ноября я родила. Роды оказались тяжелыми, перенесла горячку. В таком состоянии с новорожденным скрывалась в «малинах».
Второго ноябрьского погрома избежать не удалось. Меня вместе с родителями и двухнедельным ребенком поставили в колонну.
Когда колонна подошла к концу улицы Опанского, мы поняли: гонят на расстрел. Отец заговорил со мной: «Доченька, ты молода и должна жить и бороться. Беги!» И мы организовали прорыв.
Не помню, как я оказалась в каком-то сарае. Ночью в сарай вошла русская женщина, принесла немного еды, а ребенку сладкой водички. Сказала, что из колонны бежало много людей, немцы обыскивают весь район и мне опасно здесь находиться. И я перебралась в гетто.
Утром увидела знакомую, которой чудом удалось легкораненой выбраться из-под трупов. Вернувшись в гетто, она подтвердила: после прорыва возникла суматоха, убежать смогли многие. Рассказала и про моих близких. У мамы внезапно наступило психическое расстройство, она начала петь, кричать нечеловеческим голосом. Ее застрелили на дороге. Отец не захотел оставлять мать, и его убили рядом с ней.
Арон Фитерсон:
Беспокойно становится в гетто. Слухи ползут: за городом в Тучинке ямы роют. Не однажды видели: отряды полицейских шли куда-то с лопатами и бравыми песнями.
Восемнадцатого ноября узнаю: требуются рабочие на обувную фабрику. Надоело прятаться. Решено попробовать найти тех, о ком молва доносит — действует подполье. Да и от голода сильно страдаю, а там, на фабрике, баланду дают и хлеб. Но очень уж не хочется на немцев работать. «Впрочем, работать можно по-разному», — думаю про себя.
У меня товарищ есть, тоже сапожник, Рольбин. Отправляюсь к нему за советом, идти мне на фабрику или не идти. Я тогда, естественно, не знал, что он с подпольной организацией связан. Рольбин говорит — иди.
Выдают мне аусвайс для выхода в город. Двадцатого появляюсь у ворот, чтобы на фабрику пойти, вижу: масса людей толчется, ждут, когда на работу отправят. Кроме полиции здесь немцы в касках, с автоматами. Есть пропуск, нет пропуска — стой и жди. Начинаю подозревать неладное.
Мимо движется колонна, одеты кто во что, у некоторых узелки, ведут детей. Меня и других толпящихся у ворот пинками загоняют в колонну. Оглядываюсь, осматриваюсь: куда это я попал? Замечаю издали свою сестру с двумя детьми — рослым подростком и малышом, которого она держит за руку. Рядом муж ее Кива. Пробираюсь к ним.
Ведут нас по гетто. Тишина кругом, словно вымерло все. Проходим улицу Опанского. Говорю Киве: «Нас ведут на смерть. Пока идем мимо домов, надо попытаться бежать, потому что в чистом поле не скроешься».
В прорыв бросаемся я, Кива и старший племянник Рува. Бежим без оглядки, перепрыгиваем через какой-то забор, видим крыльцо дома и забиваемся под него. Рува не успевает перепрыгнуть, пуля настигает его, и он повисает на заборе.
Увидев сына, истекающего кровью, Кива говорит:
— Арон, я пойду на смерть вместе с сыном. — И выходит из укрытия.
Колонна останавливается, беглецов ищут. Хозяин дома, под чьим крыльцом я прячусь, выдает меня. Вытаскивают, начинают избивать сапогами и прикладами.
Двигаюсь дальше с колонной. Вижу Киву. Несет на себе сына.
Часам к двум дня приводят нас в поле, где вырыты большие ямы. Немцы и полицаи с ручными пулеметами. Командуют: сесть. Садимся. Отбирают группу, человек по пятнадцать — двадцать, подводят к краю ям и расстреливают. Некоторые идти не хотят, пытаются сопротивляться.
Не помню, как случилось: то ли меня толкнули, то ли я сам, услышав пулеметную очередь, кинулся в яму. Оказываюсь на груде трупов. Вроде живой.
Сверху валятся расстрелянные, в агонии бьют меня руками, заливают кровью… Стиснут со всех сторон, нет возможности пошевелиться, болит спина от тяжести тел, воздуха не хватает…
У меня на всякий случай яд припасен, чтобы не мучиться. Но теперь я его принимать не буду. Вдруг жив останусь.
Потихоньку выбираюсь из месива тел. Хоть дышать теперь могу. Лежу до тех пор, пока немцы и полицейские не уходят, оставив, на мое счастье, ямы открытыми.
Вылезаю из ямы и натыкаюсь на Киву. Узнаю его по черным усам. Он еле жив, бредит.
— Кива, ты узнаешь меня?
Он успевает прошептать:
— Арон, где моя Фрида?
Ничем помочь ему я уже не могу. Бреду назад той же дорогой, которой нас вели в Тучинку. Пугаюсь насмерть, увидев в придорожной канаве женщину всю в крови. Видно, я выгляжу не лучше, женщина смотрит на меня с ужасом. Тоже, как и я, с того света возвращается. И опять в гетто.
Сам удивляюсь, как смог вынести такое и не сошел с ума. Правда, потом заболел, скрывался в «малине». Поправился и начал выполнять задания подпольщиков.
Моя память о гетто иная, нежели память его узников Моей памяти нет, ее просто не может быть. Я не видел тех ужасов, сужу о них по воспоминаниям других. Но постепенно во мне происходит некая подмена восприятия, и начинает казаться, что все происходило со мной в яви: и угон в колоннах, и отчаянное бегство под автоматами сквозь охрану, и поимка, и последний миг на гибельном краю, и падение в яму под сухой расстрельный треск, и внезапный толчок, обмирание в груди (жив!), и выползание из-под теплых, еще дышащих тел… И потому память моя — это память со-переживания, со-участия, со-страдания и со-дрогания.
После двух погромов кряду территория гетто намного уменьшилась. Отдав кровь, его живое тело усохло, скукожилось. Словно безжалостная рука хирурга отсекла омертвелые капилляры улиц. Очищенный квартал по приказу гестапо отошел в «русский» район. Узников поделили: в одном месте поселили фахарбайтеров, работников юденрата, включая охрану порядка, в другом — прочих. Установился четкий порядок уничтожения, мастеровых не трогали, «выполняя план» за счет прочих.
Подпольщики постарались перевести к фахарбайтерам как можно больше семей. В этом им помогали свои люди из жилищного отдела юденрата.
В часть опустевших домов вселялись прибывающие эшелонами евреи из Германии. Их отделили от остальных колючей проволокой.
Борис Хаймович:
Лес. Он манил нас, представлялся единственным прибежищем. В лесу действовали партизаны, пока отдельные, разрозненные, немногочисленные отряды, но они существовали, сражались, и мы завидовали их бойцам.
Наша группа с согласия руководства партийной организации гетто и с помощью городских подпольщиков начала готовиться вывести людей в лес
26 ноября сорок первого мы собрались на квартире Шнитмана. Кто присутствовал? Евсей, я, Ефим Столяревич, Леонид Окунь (бывший офицер, капитан, он предпочел гетто концлагерю на Широкой) два товарища из города — Жан1 и Иван2.
1 Разведчик и диверсант Иван Кабушкин Посмертно стал Героем Советского Союза
2 Даниил Кудряков.
Проникали они в гетто регулярно, нацепляя желтые латы. Ночевали в нашем доме по Зеленому переулку, прятались от гестапо. Немцам и в голову не могло прийти, что русские подпольщики скрываются у нас под видом евреев.
План таков. Первыми в лес уходят человек пять-шесть. Забирают спрятанные на кладбище Кальвария оружие и боеприпасы. В Руденском районе организуют базу, прежде всего строят землянки и высылают в Минск проводника. Проводник связывается с Жаном. Тот достает на радиозаводе, где работают несколько подпольщиков, грузовую машину. Машина заезжает в гетто и забирает часть нашей группы — женщин и физически слабых людей. Остальных выводят Федя, тот самый партизанский посланец, приходивший в гетто в сентябре. (Настоящее его имя Шедлецкий Федор Давидович) и Иван – под видом рабочей колонны.
Но как уйти в лес налегке, без теплой одежды, медикаментов? И тогда мы обратились к Мушкину. Да-да, к председателю юденрата. Отправился к нему Федя Мушкин сразу согласился помочь. Федя, как условились заранее, заехал к нему на лошади, погрузил умело оформленные Мушкиным неучтенные излишки готовой одежды — телогрейки, варежки, ватные брюки, бурки — и доставил их в квартиру Рудицеров на Ратомскую. Другую партию одежды добыла Дора Бейненсон в швейных мастерских. Гриша Гордон, санитар инфекционного отделения больницы, принес лекарства, Абрам Релькин где-то достал шесть килограммов сала.
9 декабря на Ратомской во дворе дома Рудице-ров появились телеги Весь день ушел на оборудование в одной из них тайника. У меня имелся наган, больше оружия ни у кого не было. А ведь в пути всякое может случиться, из тайника же винтовки быстро не вытащишь. Пришлось с этим смириться.
На рассвете 10 декабря мы двинулись на двух телегах по улице Опанского в направлении Кальварии. Для маскировки пристроились к колонне извозчиков,
каждый день отправлявшихся на работу к немцам. Благополучно добрались до кладбища. В указанном Иваном месте раскопали землю и достали 13 винтовок и ящики с патронами — четыре тысячи штук, целое богатство. Спрятали в тайник, прикрыли соломой.
Пока мы откапывали оружие, на дороге началось движение. Одиноко стоявшая у кладбища вторая телега могла привлечь внимание немцев. Гинзбург, выполнявший роль извозчика, решил отъехать. И тем не менее он попал под подозрение. Ему пришлось спешно вернуться в гетто.
На кладбище мы сняли латы, дабы нас приняли за крестьян, ездивших в город менять еду на одежду. Не обнаружив Гинзбурга, все же решили продолжать намеченный маршрут. А Иван вернулся в Минск.
Двигались мы так. Метров за сто впереди попеременно двое, затем телега со мной и Релькиным, сзади метрах в ста еще двое. Какой смысл? Если немцы пристанут к передним, остальные успеют повернуть обратно или уйти в сторону. Если к замыкающим, другие рванут вперед. Кому-то придется погибнуть, однако иного выхода нет. Одним наганом много не навоюешь.
Деревни мы старались обходить. Сначала следовали по Раковскому шоссе. Миновав Барановщину, повернули на юг, проехали до Щемыслицы, потом на восток и оказались на Слуцком шоссе. Изредка проезжали немецкие военные машины. Одна затормозила перед самой лошадью, мы едва успели остановиться.
— Руссише бауэр, — гоготали немцы неизвестно отчего и показывали на нас пальцами.
Мы прикинулись ничего не понимающими дурачками. Я показал знаками — «курить». Немцы угостили нас сигаретами, посмеялись и уехали. Чего они от нас хотели?.. Я посмотрел вперед. Наш головной дозор сидел на обочине. Оглянулся назад: замыкающие тоже на обочине. Знаками показал двигаться вперед.
Стало смеркаться. Лошадь устала. Остановились Движение на шоссе уже прекратилось. Нужно было свернуть в деревню, чтобы достать сена или овса для лошади да и самим попросить еды. Ведь все сало осталось на второй телеге. Только Релькин имел буханку хлеба и брусок сала около полукилограмма.
Собрались вместе, обсудили положение. Впереди виднелся поворот с шоссе на проселок, указатель с надписью «Бахровичи». Быстро темнело. Лошадь еле тащилась. Расстояние между задними, передними парами и телегой сократилось метров до двадцати — иначе потерялись бы в темноте. Впереди замаячили контуры деревни.
Вдруг послышался окрик:
— Хальт!
Передние рванулись было бежать. Релькин круто повернул лошадь, но она не хотела идти. Не бросать же оружие! Вшестером уперлись в телегу и покатили ее, толкая лошадь. Вслед прогремело несколько винтовочных выстрелов. Очевидно, часовой был один и преследовать нас побоялся.
Вновь выскочили на Слуцкое шоссе. Вскоре в стороне от него увидели одинокий дом. Свернули к нему. Дом был недостроен, но уже с крышей. Не было, правда, дверей, окон, пола, печи. Оставили лошадь на подворье, бросили ей остатки сена с телеги. Сами забрались на чердак и там провели ночь.
Едва забрезжил рассвет, запрягли лошадь и двинулись проселком в сторону леса. Заехали в чащу, выбрали место поглуше, разгрузили телегу, разобрали второе дно, перекусили. Несмотря на то, что почти сутки голодали, ели очень экономно: сала кот наплакал, а сколько нам предстоит ждать своих товарищей, неизвестно.
Отправили в Минск связного-проводника Мишу Рудицера, а сами соорудили землянку, в ней сделали нишу для костра, вывели дымоход, чтобы огня не было видно снаружи. Разложили костер. Почистили винтовки, выставили пост.
Рудицер вернулся в Минск, в гетто. Машина с радиозавода, присланная Славкой, подошла к границе гетто — Колхозному переулку. В машине находились минские подпольщики, командиры Красной Армии, медики, часть нашей группы. Рудицер сопровождал машину, но потерял ориентиры нашего местонахождения и привел людей в отряд Сергеева.
Сергееву сообщили о нас: шесть человек с винтовками и боеприпасами находятся где-то неподалеку в лесу. Сергеев выделил поисковую группу, в которую включили и Мишу Рудицера. Группа ночью наткнулась на нашего часового. Мы тут же снялись, партизаны помогли нам нести оружие и боеприпасы.
Через несколько дней Иван и Федя привели оставшуюся часть группы.
Для отряда Сергеева наш приход был ощутимым пополнением. Из числа узников гетто Сергеев создал пулеметный взвод — тридцать человек. Я был назначен помкомвзвода, командиром — Леонид Окунь.
Так началась наша партизанская жизнь.

ГЛАВА ПЯТАЯ
«Вами, евреями, заквасили, нами, белорусами, замешивать будут», — говорили в ту пору.
Вместе бедовали, вместе боролись, вместе гибли. Что могли бы подпольщики гетто без помощи местного населения? И наоборот: как радовались в партизанских отрядах каждому влившемуся в ряды мстителей посланцу гетто. Каждой винтовке, каждому нагану, каждому флакону йода, принесенным с собой.
Факты, факты…
Возле ограды гетто по Зеленой улице незаме ченным ходит белорусский крестьянин. «Как там семья Янкеля Слоуца? Расстреляны? Ах ты, господи… Погодите…» Снимает с подводы мешок картошки, капусту, свеклу, перебрасывает через проволоку. Вез одним, а отдал другим мученикам.
В концлагере на Широкой гибнут заключенные, особенно евреи. Им труднее сопротивляться Городецкому и его банде. И вот школьный учитель, ставший в лагере шофером, тайно начинает вывозить евреев.
На конспиративных городских квартирах Ясинской, Герасименко, Гороховой, Мелентович, Каминской, Серовой и многих других встречаются подпольщики гетто, находят приют и кров. А Михаил Гебелев прячет в гетто русских товарищей, беглецов из концлагеря.
Многие русские и белорусские женщины не разлучаются с мужьями-евреями, живут за колючей проволокой, носят желтые латы. Великая солидарность.
Дора Альперович:
Седьмого ноября, в погром, удалось мне отдать своего шестилетнего сына знакомой — Марии Васильевне Бабич. Та устроила Леню в русский детский дом. Его выдали. К кому бежать за помощью? К Щасному, больше не к кому. Тот выслушал, взял бутыль самогона, сало, яйца — ив полицию.
— Ошибка вышла. Это мой племянник, глядите, он же необрезанный.
Спас Николай Романович Леню и передал своей сестре.
Познакомилась я с Николаем Романовичем перед войной. Был он завхозом в детском доме на станции Ратомка под Минском, а я заведовала врачебным участком. Жена Щасного ждала шестого ребенка. Роды прошли не совсем удачно, при смерти она оказалась. Я отдала свою кровь, спасла и ее, и новорожденного. После этого мы еще больше сблизились.
Под первые бомбежки готовили мы с Николаем Романовичем госпиталь для раненых бойцов. Он мне.
— Дора Борисовна, надо уходить в лес. Перенесем раненых, а то всех разбомбят.
И мы ушли в лес. Немцы обнаружили госпиталь, раненых доставили в минскую городскую больницу. Конечно, не из гуманных соображений. Едва красноармейцы поправлялись, их переводили в концлагерь на Широкой. Я и другие врачи, перебравшиеся в больницу, пытались спасать раненых. Собирали одежду, включая женскую, переодевали бойцов, подлечившимся помогали убегать, многих переправляли к Щасному в Ратомку. Тот их прятал. Помогал ему в этом сын Леокадий, пастух. Набирал он в торбу вареную бульбу, соль, хлеб и уходил в лес, где скрывались, бойцы.
В детском доме, где Николай Романовне хозяйствовал, жили десятки еврейских сирот. Понимал Щасный: погибель их ждет. И тогда он подделал документы: напротив каждой фамилии написал — «белорус, о родителях сведений нет». Всего таким образом спас шестьдесят детей.
Вскоре я попала в гетто. Щасный не забывал меня, помогал продуктами, и не только. Привезет, бывало, полмешка картошки, а туда вложит медикаменты. Где брал? В Ратомке разбомбили аптеку, собрал оставшиеся лекарства и спрятал. Как они пригодились потом!
Стена больницы гетто выходила на улицу Опанского. В заранее условленный час я следила за появлением Щасного на подводе. Увижу его, подбегу к стене, он мигом перебрасывает мешок, а в нем вата, бинты, йод, сульфидин…
Светлый человек Щасный, не могу без слез благодарности вспоминать о нем. Много было таких, как он, иначе бы гетто погибло гораздо раньше и никакой помощи партизанам оказать не смогло бы. Однако находились и другие.
Обратилась я как-то к своему бывшему сокурснику Жизневскому, он тогда заведовал минским горздравом. Выбраться в город непросто, кругом полиция. Рискуя, пошла к нему, попросила помочь медикаментами. Жизневский почувствовал: речь идет не только о больнице, но и о снабжении партизан. Отказал мне:
— Я нiчога агульнага з гэтыми брудными людьми не маю.
И все-таки таких, как Щасный, было больше
Полина Айзенштадт:
То, что выглядит сейчас нормой, тогда выглядело мужеством. Например, пустить чужого человека, тем более еврея, переночевать. И пускали, и прятали, и делились последними крохами. Однако… Правда о том времени — она как одеяло из лоскутов: один такой, другой сякой, нет двух похожих.
Перед первой «акцией» седьмого ноября сестра Рива с ребенком ушла из гетто к своей подруге. Та ребенка взяла, а ей отказала. Побоялась. Моя золовка, русская, вообще нас не приняла. «У меня у самой ребенок, поймите… Не немцев боюсь — соседей. Донесут, что прячу евреев».
Попадая в безвыходное положение, шли мы к Бубнову.
Виктор Александрович, до войны железнодорожник, жил одиноко, бобылем. Пробавлялся тем, что менял вещи на еду. Познакомились мы случайно и обрели в нем верного друга, защитника. Седьмого ноября ночевали у него, а жил он за товарной станцией. Так и спаслись.
Сыну Ривы исполнилось одиннадцать месяцев. Голодал он, как и мы, страшно. Если бы не Бубнов, не выжить нам. Он и еду к проволоке приносил, и одежду давал.
Началась эпидемия тифа. С высокой температурой слегла я у Бубнова дома. Он бы и рад меня приютить, но ведь лекарств никаких. И тогда пожилой человек буквально на себе приволок меня в гетто, помог перебраться через проволоку и успокоился лишь тогда, когда узнал, что я в больнице.
Потом тифом заболела Рива. Получила осложнение — тромбофлебит. Нога превратилась в колоду. Бубнов продолжал приносить продукты к проволоке, подкармливал нас.
Феликс Липский:
Что мы ели? Варили крапиву, траву, когда перепадали картофельные очистки — «лупины» по-белорусски, был праздник. Голод мучил сильнее страха. К страху привыкали, и он исчезал — вернее, притуплялся, а вот к голоду… Я это состояние хорошо помню, хотя мне всего-то четыре года было.
Помогала нам Фата, Фатима Ибрагимовна, татарка. До войны работала вместе с моей мамой. Не то чтобы дружили, просто хорошие знакомые. И вот отрывала от себя последнее, поддерживала нас чем и как могла. Однажды мне перепал от нее кусок белого хлеба. Представляете, настоящего белого хлеба! Такое не забывается…
Бронислава Загало:
Чудом оставшись в живых после первого ноябрьского погрома, я ушла из гетто. Куда, к кому? — не представляла. На еврейку я не похожа, что оставляло кое-какие надежды.
По совету одной женщины доехала на попутной машине до Самохваловичей. Оттуда двинулась на Койданово. Шла, шла, не раз отчаяние охватывало. Вспомнила: где-то неподалеку живет бывший сосед по деревне, откуда я родом. Никитич его фамилия, зовут Иваном.
Нашла его. Увидел меня, обрадовался:
— Дорогая моя Бронечка, куда путь держишь?
Первым делом накормил. Потом выспросил про мою судьбу, про то, как мужа в погроме потеряла.
— Оставайся у меня. Тебя здесь никто не знает. А я возьму самогон, пойду в волость и выхлопочу тебе документы.
И точно. Принес справку, что я — Голубева Вера Ивановна, родственница.
Иван и его сестра относились ко мне как к родной. Муж сестры, от которого на всякий случай скрывали мою национальность, случайно про все прознал и начал пенять своей жене:
— Почему не сказала правду? Неужто не веришь мне? Ведь если бы меня повесили, я бы не знал, за что.
Такие мне попались люди.
Через некоторое время я ушла в лес. Стала связной отряда, выводила из гетто будущих партизан. И часто с благодарностью вспоминала Никитичей.
Анна Серова:
Осталась я на оккупированной территории с двумя маленькими детьми. Я сразу включилась в подпольную работу — иначе своего существования не мыслила. Квартира моя на Московской улице вскоре превратилась в конспиративно-явочную. Что только у меня не хранилось! Винтовки, гранаты, патроны, затворы, пишущая машинка, аккумуляторы, радиоприемники, бланки для паспортов и прописки, медикаменты, подпольная литература, листовки, газеты, сводки Совинформбюро…
Регулярно встречалась с евреями гетто. Анна Карпилова доставала в больнице бинты, вату, хирургические инструменты, приносила мне на квартиру, а я переправляла партизанам. Работавший на немецком складе Лайтайзен передавал оружие.
А дети… Их отдавали в «русскую» часть города, пытаясь сохранить им жизнь. Через городскую управу я устроила в детский дом сначала троих еврейских ребятишек от двух до восьми лет, потом еще одного мальчика-сироту. Остались они живы.
Однажды, едва начало смеркаться, заявились ко мне немецкий жандарм и полицейский-белорус. Увидели свет в окнах и решили проверить, есть ли у меня разрешение на пользование электричеством. Едва начался разговор, входит подпольщица и партизанская связная Настя Веремейчик, вернувшаяся из леса. Вот так встреча! К счастью, жила она у меня на легальном основании. Жандарм и полицай проверили ее паспорт, где была указана прописка в моем доме по Московской, освобождение с биржи труда, ничего подозрительного в документах не обнаружили. Обшарили глазами комнату, но обыск проводить не стали.
А в эти минуты во дворе прятался бежавший из концлагеря на Широкой Михаил Карпилов, брат Ани. Увидев в моих окнах свет, он осторожно заглянул и отпрянул при виде непрошеных «гостей». Ждал, пока они уйдут. Я его накормила и отправила на чердак. Утром он и еще двое военнопленных из лагеря, тоже скрывавшиеся у меня, ушли с Веремейчик к партизанам. Не с пустыми руками — захватили оружие, гранаты, патроны и радиоприемник.
Во время очередного погрома прибегает из гетто Аня Кристаль. Раньше приносила мне боеприпасы, лекарства, все, что удавалось доставать, хорошо знала мой дом. К кому же еще бежать?.. Прячу ее на чердаке. Буквально через час по Московской улице ведут колонну евреев на расстрел. Из колонны вырываются двое, один из которых — Лайтайзен. Заскакивают в дом — и прямо на хорошо известный им чердак. Тут же передо мной — а я стояла с ребенком на руках возле ворот — вырастает полицейский с револьвером. «Куда бежали два еврея?» Говорю, что побежали они дальше по Рабкоровскому переулку.
Всех троих немедленно переправила в лес.
После освобождения Минска ко мне стали приходить вчерашние партизаны. Иногда останавливались на несколько дней. Дом был переполнен. Кто-то из соседей даже заметил с легкой завистью: «У вас, Анна Ивановна, образовался целый партизанский штаб». Узнав от моих квартирантов, что это был за дом в период оккупации, соседи ахнули. Вроде вся моя жизнь у них на глазах проходила, а оказывается, далеко не вся. Жаль, сгорел дом 20 июля сорок четвертого после налета вражеской авиации. Я была тяжело ранена, долго пролежала в больнице…
В шестидесятые годы шел розыск уцелевших минских подпольщиков. Навестили меня ребята школы, что на улице Жудро, попросили поделиться воспоминаниями. Написала, что помнила, назвала фамилии тех, кто помогал мне, кого спасла, в том числе евреев гетто. Руководил ребячьим поиском учитель физики. Прочитал он мои воспоминания и обратил внимание на фамилию Лайтайзен. В классе у него была ученица Лайтайзен. Вызвал он отца девочки оказалось, тот самый, кто на чердаке моем скрывался и кому я помогла уйти в лес. До той поры мы не виделись — так уж случается…
А вскоре наградили меня орденом Отечественной войны второй степени.
Дора Шейвехман:
После расстрела на еврейском кладбище в Минске, когда я и моя дочка чудом уцелели, ушла в лес. Кое-как добралась до местечка Раков. Нашла сельский Совет, здесь он назывался гмина (по-польски). Я объяснила председателю, что сама украинка, что муж у меня ветеринар, был в Орше, обещал приехать, но война помешала, я родила ребенка и пустилась на поиски мужа. Фамилия моя Нестеренко, зовут Даша, по отчеству… — но он меня остановил, сказав, что у них отчества не приняты. Спросил, что я умею делать, и предложил: «Если хотите, дадим лошадей и отвезем в другую гмину, там получше, чем у нас» Я испугалась. Опять куда-то ехать? Вдруг встречу кого-нибудь из знакомых. Да и сил не было. Мечтала об одном: оказаться в тепле и съесть тарелку супа.
Меня отвезли в детский дом. Здесь были самые разные дети. Как я потом узнала, были среди них и еврейские ребятишки. Их собрала здесь монахиня Екатерина, ее звали «сестра Катаржина». Она очень тепло меня приняла, обласкала, сказала, что никуда не отпустит. Буду доить коров, шить, штопать детскую одежду, помогать на кухне.
Шло время. Жили мы в детском доме хотя и впроголодь, но с гетто это было, конечно, несравнимо. Постепенно дети стали исчезать. В том числе и еврейские. Я узнала, что сестра Катаржина в дружбе с ксендзом Ганусевичем. Ксендз ездил по деревням, по хуторам и уговаривал хозяев брать к себе детей-сирот. Кстати сказать, всех детей они обратили в католическую веру. Это был шанс спасти их.
Я прожила в детдоме до 5 апреля сорок второго. Одно страшное воспоминание не дает мне покоя. Всех евреев Ракова заживо сожгли в синагоге. Даже спустя месяц в воздухе пахло паленым человеческим мясом. Умирать буду, не забуду этот запах…
Дора Шейвехман:
Из детского дома меня забрал к себе ксендз Ганусевич. Он полюбил мою дочку Алинку, часто возился с ней. Жившая при нем в доме пани Марыля, считавшая себя полновластной хозяйкой, начала ревновать ксендза к ребенку, а значит, и ко мне. Но это было, в конце концов, не страшно. Это можно было пережить. Главное — никто не догадывался о моем и Алинки еврействе.
Я помогала по хозяйству. Все шло заведенным порядком. Но однажды… У ксендза завтракали полицаи. Подойдя к столовой со сковородкой, в которой была яичница, я услышала обрывок разговора. Полицаи спросили ксендза: верно ли, что в его доме живет жидовка с ребенком? С остановившимся дыханием я слушала у дверей продолжение разговора. Ксендз спокойно ответил, что это поклеп, что я украинка. И тут я вошла. Ксендз говорит полицаям — вот она. «Ну-ка, Даша, какой в марте православный праздник?» Я отвечаю: «25 марта, Благовещение». — «Вот видите!»—обращается ксендз к полицаям. Затем я по его просьбе без запинки прочитала «Отче наш». Меня отпустили с миром. Я поняла, что под меня «копает» пани Марыля.
Однажды между нею и ксендзом произошел конфликт. Пани Марыля заявила, что уезжает. Ксендз не стал возражать. Вечером он позвал меня к себе и сказал, что отныне весь дом буду вести я.
Вечером, когда я стелила ксендзу кровать, он неожиданно вошел и закрыл дверь спальни на ключ. Я обмерла. Не обращая внимания на мой испуг, ксендз открыл шкаф, достал оттуда какой-то проводок, к чему-то его подсоединил, и я увидела работающий радиоприемник. В то время это каралось смертью. И тут я слышу: «Говорит Москва. Работает радиостанция имени Коминтерна»… Я заплакала. Ксендз, увидев мои слезы, сказал: «Не плачь. Советы еще вернутся».
Я поняла, что ксендз связан с партизанами. Он передавал им продукты, одежду, медикаменты. Страх мой еще более усилился — теперь уже я боялась не только за себя, но и за него. В таком вечном страхе я прожила с дочерью у ксендза до июля сорок четвертого.
После освобождения Минска через Раков начали проходить советские военные части. Как-то на легковой машине подъехали майор и гражданин в синем берете, такого же цвета костюме, гольфах и туфлях. Это был Илья Эренбург. Ксендз позвал меня вместе с Алинкой, сказал, что приютил нас. Эренбург начал расспрашивать меня, кто я и откуда. Я не сказала ему правду, сообщила то же, что и всем, — мол, украинка Даша Нестеренко и прочее. Настолько мною владел страх, что и теперь я боялась признаться советским людям.
А дальше все сложилось счастливо. Я нашла своего мужа, страх постепенно начал покидать меня.
Из оперативного донесения эйнзатцгруппы в Берлин.
Январь 1942 г.: «В Белоруссии очистка от евреев в полном разгаре…»
Чьими руками творилось зло? Не только немецкими. Взять того же Городецкого, помощника коменданта концлагеря на Широкой. Красивый, лощеный, улыбчивый, внешне прямая противоположность коменданту лагеря — офицеру СС по кличке Моргун, контуженому — и впрямь все время моргавшему, так что фуражка ходила туда-сюда. Моргун как-то с удивлением отметил: «У вас, Городецкий, всегда хорошее настроение». И получил ответ на немецком (Городецкий им хорошо владел): «Чем чаще я вижу кровь, герр гауптштурмфюрер, тем чаще улыбаюсь».
В гетто Городецкий приезжал п оразвлечься. Непременно с плеткой, куда был вшит свинец. Многие его запомнили и испытывали омерзение, когда упоминалось его имя. Среди первых его жертв оказался известный в Минске медик Ситерман. Городецкий избивал его до полусмерти, откачивал и снова начинал куражиться. Заставлял профессора плясать голым, залезать на забор и кукарекать, а в довершение всего чистить руками нужник.
«Отличался» он и на Широкой. Однажды придумал потеху. По его приказу дежурный полицейский — западный украинец — заставил попросившегося в туалет еврея мерить дорогу спичками. Вот так, укладывая спичку к спичке, и прополз тот от двери барака до сортира.
Был и такой случай. В лагерь прибежала тетка из города и пожаловалась Городецкому: гнали колонну военнопленных на работу, полицейский не заметил, как один забежал к ней в дом, стащил кусок колбасы и тут же съел. Тетка запомнила его: «Он шлем такой на голове носит». Вечером Городецкий построил всех вернувшихся с работы, и тетка опознала человека в шлеме. Вывели его из строя, положили на землю, задрали ноги, и по команде двое полицейских лопатами плашмя стали бить по голым пяткам. Восточная пытка — видно, помощник коменданта где-то слышал о ней. Били, пока не забили насмерть. Чтобы другим впредь неповадно было воровать.
В самом конце семидесятых в Минске судили карателей, добивавших гетто. Пятерых приговорили к расстрелу. Проходившие по делу свидетели, бывшие полицаи, в свое время отсидевшие различные сроки, давали показания о своих бывших сослуживцах. Нередко со скамьи подсудимых слышалось в их адрес:
— Врете, что не расстреливали. Вы же вместе с нами в акциях участвовали.
Одному карателю расстрел заменили пятнадцатью годами лишения свободы — ему
т огда не исполнилось восемнадцати. Законы распространяются на всех, даже на извергов.
Другой после войны доблестно работал в шахте, заслужил орден Ленина. «Зачем вам понадобилось так хорошо трудиться? — спросили его на суде. — Хотелось денег, славы, почета?» — «Деньги мне за ненадобностью, — усмехнулся бывший каратель. — Я столько ценностей награбил в еврейских домах, что внукам хватило бы. Орден Ленина давал мне гарантию: если органы выявят меня, я не буду расстрелян».
Что же касается Городецкого, то дальнейшая судьба его неизвестна. По крайней мере автору. А вот судьба бывшего командира первой роты второго полицейского батальона, переброшенного в Минск в октябре сорок первого из Литвы, недавно стала известна.
Антанас Гецевичюс. Антанас Гечес, как он себя называет на западный манер. Жил в Эдинбурге, на Мостон-терас, 3. Седьмой форт Каунаса, Слуцк, минское гетто… Тысячи евреев уничтожены при его участии. Садист, он отличался особой жестокостью и цинизмом — это вытекает из показаний его сослуживцев. А потом жил и благоденствовал в Шотландии. «Обычный джентльмен. Очень приличный — так мне казалось», — заявила английским журналистам хозяйка лавки, расположенной поблизости от особнячка на Мостон-терас.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Мы последние дети последней войны.
Нас уже не слыхать, мы уже откричали.
Не жалейте, вы нам ничего не должны.
Да останутся с нами все наши печали!
Г. Русаков
Есть боль недуга. Есть боль грусти, тоски. Есть боль любви, сладчайшая и горчайшая. Есть боль горя, отчаяния, утраты, разлуки. Есть боль неминучая и проходящая. А есть боль запредельная.
Я не могу писать о том, как в «малине» задушили начавшего пищать девятимесячного ребенка — плач мог навести немцев. У ребенка не было имени — при рождении его никак не нарекли.
Я не могу писать о том, как шестилетний Яша вылез из-под груды облитых бензином горящих трупов (среди них и его родители) и, закоченев, обогревался у этого огня.
Я не могу писать о том, как сидели в крохотном скрыте двадцать человек, спасаясь от четырехдневного июльского погрома сорок второго, слыша за спиной крики и выстрелы, сидели в духоте и спертости, без еды и без воды, и как изнемогшие дети пили мочу. В эти четыре дня у четырехлетнего Феликса Липского появились седые волосы.
Я не могу писать о том, как гестаповец Менцель, иногда проверявший рабочие колонны и не допускавший присутствия в них матерей с маленькими детьми, вырвал из рук женщины малыша, наступил ногой на его головку и разорвал тельце пополам.
Я не могу писать о том, как офицер Авсей Лупьян получил на фронте известие о гибели в гетто всей семьи и начал в перерыве между боями писать письма своим мертвым детям — двум мальчикам и девочке.
Лет двадцать назад ломали дом, в котором семья Лупьяна жила до войны и куда он не захотел, не смог вернуться после фронта. В подвале он нашел детские пинеточки и башмачки. Они хранились у Цили Ботвинник, которая также потеряла близких и на которой потом женился Лупьян. Пинеточки и башмачки теперь хранятся у их детей Яна и Семена.
За два часа до смерти у Авсея Семеновича, перенесшего третий инфаркт, резко упало давление. Сын Ян, врач, ввел отцу нужное лекарство, тот порозовел. «Есть Бог на свете, раз я пришел в себя», — прошептал он. Но тут же добавил: — Нет, все-таки Бога нет. Если бы он был, он покарал бы Гитлера, а не моих малюток». Умирая, он вспоминал троих своих детей, погребенных в гетто.
Я не могу писать об этом, а пишу. Меня корчит от боли, выворачивает наизнанку от тошноты. В конце концов, я тоже человек, обыкновенный человек, чьи душевные силы не беспредельны. Я не могу об этом писать!!!
И вдруг как белая короткая вспышка, как искровой разряд — мысль: а надо ли вообще это вспоминать? Кому все это нужно? Может, лучше не бередить раны, не терзаться, не мучиться… На смену ночи обязательно приходит день, иногда солнечный, благостный, сулящий мир и покой. Сколько можно вспоминать войну?! До каких пор?!
…Девятый класс московской школы. Любопытствующие мордашки, упитанные, навитаминенные заботливыми папами и мамами. Застенчивые, ехидные, задумчивые, нагловатые взгляды. Странный взрослый дядя с согласия учительницы пытает их на предмет расшифровки не очень знакомого слова. Эксперимент ставит, что ли? Валяйте, дядя, мы не против, сейчас везде эксперименты.
— Гетто? Это вроде… ну как сказать… загона, что ли, для диких лошадей, — демонстрирует эрудицию парень с внятно пробивающимися усами. Шутит? Да нет, похоже, всерьез. — Потом лошадей выпускают, и ковбои прыгают на них.
— Ты с родео спутал, чайник, — поправляют его.
— Гетто в Африке есть. Не помню только где — напрягает извилины девочка в очках с кокетливой челкой. — В газетах писали.
— Гетто? Это что-то такое, связанное с немцами и еще, кажется, с неграми, — приходят на выручку с первых парт, куда, известно, плохих учеников не сажают.
Может, не надо им знать про настоящее гетто? Пускай себе живут в счастливом неведении. Оттого, вероятно, не очень любят они смотреть фильмы и читать книги про войну. Не все, конечно, но многие. Однако боль не дает мне покоя, саднит и мучает, властно вкладывает перо в пальцы – пиши. Пиши для них, им это нужно. Может, не обрастет душа коростой и научится воспринимать чужое горе как свое собственное…
Как же существовали в гетто другие дети, те, кто постарше? Как добывали пропитание? Ведь от этого во многом зависела жизнь или смерть. Путь был один — в город.
Владимир Рубежин:
Так случилось, что в гетто я оказался один-одинешенек. Мать с моим младшим братом смогла эвакуироваться, отец ушел на фронт, успев вывезти меня в Минск из пионерского лагеря. Словом, надеяться не на кого.
Роста я был маленького, но коренастый, шустрый. В обиду себя не давал. Ежедневно ходил на Комаровский и Суражский базары с мешком. Менял вещи (покуда имелись) на муку, лук, хлеб. Целыми днями пропадал в городе. Носил я тогда челку, на еврея не походил А вечером возвращался в гетто. Или втирался в колонну шедших с работы, или пролезал под проволокой. Как когда.
Еще одно место сбора пацанья — вокзал. Как и остальные, я попрошайничал. Иногда из проходивших мимо немецких эшелонов бросали огрызки «хлеба, остатки консервов. Тем и питался.
К ватагам я не присоединялся. Сам по себе. Если встречал немца и полицейского, никогда не убегал, не переходил на другую сторону улицы. Они ведь точно собаки — чувствуют, когда их боятся. Пёр нахально на них и глаз не отводил.
Жизнь учила наблюдательности. Бывало, подойду к гетто: что-то много охраны. Идти опасно. Возвращаюсь в свой родной довоенный двор, отдираю доску от сарая и ночую внутри.
Однажды попал в облаву. Полицаи шмон устроили. Отдал отцовские часы. Отпустили.
Второй раз, помню, на Юбилейную площадь согнали людей. На смерть. И я туда попал. Убежал.
Михаил Столяр:
В семье нашей девять детей было. Отец раньше жил за границей, владел английским, немецким, французским. Человек образованный, начитанный, люди к нему тянулись. В гетто он работал в портняжной мастерской. Русские соседи по старой квартире помогали, носили картошку к проволоке. Я, в свою очередь, частенько выходил в город менять оставшиеся вещи на продукты.
Второго марта сорок второго побежал навестить друга и попал в облаву. Русоголовый, получил плеткой по спине и полицейское напутствие: «Вон отсюда!» Полицай не признал меня за еврея.
Убежал через проволоку на вокзал, переночевал там, а когда вернулся — дом пустой. Все погибли. Только одна сестра смогла спрятаться в «малине». Сидела с ней сначала и старшая сестра. Сама, добровольно вышла из укрытия — ив колонну вместе с близкими. Погибать, так вместе.
Ходил с мальчишками на пассажирскую и товарную станции. Воровали, меняли, выклянчивали. Объединялись в ватаги, шайки. У всех клички. У меня — Черт. Опекал меня Капиталист — русский хлопец лет шестнадцати. Что собирал, половину ему отдавал. А он меня за это защищал.
Стоит на путях товарняк. Делаем дырку в вагоне, шарим руками, достаем что можем, кладем в мешки — и на рынок. Так и существовали.
Немцы облавы на нас устраивали. Собак пускали. Мы — под вагоны и врассыпную. Если русских ловили, часто отпускали, евреев же — в машину и на еврейское кладбище. Там и расстреливали. Я, видно, за русского сходил — дважды отпускали. А вот Мишка Тайц побывал-таки в машине. Выпрыгнул. На ходу. Эсэсовец выстрелил — на Мишкино счастье, осечка.
Запомнилось вот еще что. До войны в моем классе учился мальчик по фамилии Бат. Плохо учился, а я хорошо. Меня закрепили за ним. Семья его была неблагополучная, отец пьянствовал. Мы с ним сдружились. Тогда, надо сказать, мы не интересовались, кто какой национальности. Я не знал, что он, оказывается, немец, он не знал, что я еврей. И вот в сорок втором встречаю его в городе. Обрадовались. Завязали разговор. Он меня между прочим спрашивает:
— Ты кто по национальности?
— Еврей.
— Еврей? — Он делает удивленные глаза, демонстративно поворачивается и уходит.
Однажды в русском районе окружила меня ватага пацанов.
— Жид, давай золото, а то убьем!
Начали меня колошматить. И вдруг окрик:
— А ну разойдитесь!
Это оказался Бат — вожак ватаги. Ничего мне не сказав, не поздоровавшись, он тем не менее увел, пацанов.
Ну а дальше — детдом, куда я пришел, дойдя до ручки, обовшивев, изголодавшись, спасение в апрельском погроме и уход в лес.
Рейхскомиссару Остланда Лозе г. Минск
…На подробных совещаниях с бригаденфюрером СС Циннером и исключительно.энергичным руководителем СД оберштурм-банфюрером СС д-ром права Штраухом сообщалось, что за последние 10 недель в Белоруссии ликвидировано около 55 тысяч евреев. В Минской области евреи полностью истреблены, причем от этого не пострадала вербовка рабочей силы…
В Минске и в будущем останется значительный контингент еврейской рабочей силы, поскольку производство на военных предприятиях и ж/д транспорте временно этого требует. Во всех остальных областях число евреев, используемых в качестве рабочей силы, устанавливается СД и мною в количестве самое большее 800 человек, а по возможности не более 500. Таким образом, после завершения объявленной нами акции у нас останется: в Минске 8,6 тысяч и в остальных десяти областях, включая избавленную от евреев Минскую область (сельскую), около 7 тысяч евреев. Поэтому больше нет опасности, что в будущем партизаны будут существенным образом опираться на еврейство.
Разумеется, и мне, и СД было бы всего приятней после того, как отпадут экономические нужды вермахта, окончательно искоренить еврейство в главном районе Белоруссии.
Генеральный комиссар по Белоруссии Кубе.
10 августа 1942 г
Можно забыть многое, но обличие палача, мучителя — никогда. Вот почему каждый бывший узник гетто, кому я называл фамилию «Маркман», реагировал похоже: «А, эта рыжая Мирка…»
Ее боялись пуще огня. Из еврейских «оперативников», а их насчитывалось десятка два, Мирка считалась одной из самых злобных. Активно помогали ей Йоха, Элинка Гинзбург, еще двое или трое, а самым главным был Эпштейн — заведующий биржей труда юденрата. «Гестапо мне полностью доверяет», — похвалялся он во всеуслышание.
Винтовки «оперативникам» не полагались, их оружие — глаза и уши. Они должны были видеть и слышать все, что тайно делалось в гетто, и доносить кому следует.
Они презирали еврейскую толпу, редеющую с каждым месяцем. А толпа презирала их. Рыжая Мирка — крепко сбитая, статная, вчерашняя физкультурница — держалась уверенно, во всяком случае внешне, всем своим видом показывая, что ей начхать на косые взгляды. Другие нервничали. Та же Иоха. Отец ее, печник, говорил, что ему стыдно в глаза людям глядеть. Мирка советовала Иохе: «Дерни его раза два за пейсы, чтоб образумился. Ты ему жизнь сохраняешь, а он позорит тебя».
«До тех пор пока гетто существует, нас не тронут», — считали Мирка и ее пособники. Хотя бывали и исключения. Командовал «оперативниками» Розенблат, варшавский еврей — вор, сутенер и пьяница. Чем-то не угодил гестапо и сам туда загремел. Расстреляли его.
…Четырехдневный погром конца июля сорок второго; Гетто в крови, немцы и полицаи пьяные, прямо на улицах накрыты столы с едой и вином — Эпштейн расстарался. Пьют и убивают, снова пьют и снова убивают. В ночь на тридцатое июля объявляют работникам юденрата: завтра будет решен вопрос, жить вам или червей кормить. Утром забирают часть из них, в том числе нескольких «оперативников», грузят в душегубки. Мирке повезло — уцелела.
После еще рьянее начала служить немцам, помогать полицаям. И ловила себя на зависти к Эпштейну. Вот кто хорошо устроился. Красивый малый, невысокий, ладный. Сам из Лодзи. Советскую власть на дух не переносит. Женился в гетто. Роза, жена его, тихоня, скромница, сероглазая, белокожая. Любит его, а он над ней измывается. И брату ее Борьке достается. Борька как-то спросил сестру: «Зачем за бандита вышла?» Та потупилась, молчит.
Хитрющий Эпштейн надумал буфет устроить, где немцев можно угощать. Своего рода комнату отдыха. Нашел нескольких девушек посимпатичнее, обрядил их в халатики белые. Не хватало кондитера. Кто-то подсказал: есть кондитер, Хася Фридлянд — «Пекарка». Удивительные вещи готовила до войны. Мигом доставили ее на биржу труда. Переселили поближе к юденрату, муку дали, яйца, масло — показывай свое уменье. Мирка шепнула Эпштейну: «Хася эта ненадежная. По-моему, помогает кое-кому, метит к партизанам». Он на нее косо глянул: «Ты, рыжая бестия, не смей мне обедню портить. Мне высокое начальство немецкое принимать надо по высшему разряду, а ты всякую ерунду плетешь».
Заработала комната отдыха вовсю. Немцы довольны, хлопают Эпштейна по плечу. Особенно часто Менцель туда заходит, высокий, с волосатыми руками, на гориллу похож. «Если я не вижу крови, у меня пропадает аппетит», — ржет во все горло.
Эпштейн перед немцами выслуживался как мог. Однажды гестаповцы плотно, с вином и водкой, пообедали и высказали желание послушать музыку. Тут, на удачу, мимо биржи проходил Барац — скрипач варшавской, а затем минской филармонии. Эпштейн его заарканил, «Я два года инструмент в руках не держал», — отнекивался Барац. «Играй, коль я тебе приказываю», — зашипел Эпштейн и сунул ему скрипку. Играл Барац минут десять. Немцы разомлели, едва слюни не пустили. Благодарили Эпштейна, даже руку жали.
А потом отмечался день его рождения. Ждали высоких гостей, те почему-то не приехали. Новый председатель юденрата Заменштейн произнес первый тост:
— Сегодня мы собрались по случаю дня рождения нашего уважаемого Эпштейна. Здесь, среди евреев, можно говорить открыто. Хоть немцы и пытаются скрывать от нас события на фронте, им это не удается. Наверное, скоро сюда вернется советская власть. Надо подумать о том, чем мы ее встретим. Юденратом сделано немало хорошего, но и немало плохого. Простят ли нам плохое?
Эпштейн скривился, однако не возразил ему. Да и нечего было возразить.
Мирру Маркман и Йоху удалось заманить в лес. По приговору партизан они были казнены. Эпштейн оказался хитрее, в лес не пошел. Да и на что он там мог рассчитывать… Не было ему прощения на этой земле. Где и как закатились его дни? Этого, наверное, уже никто не сможет сказать.
Арон Фитерсон:
Среди еврейских «оперативников» тоже люди были, не надо всех черной-краской мазать. Тот же Зяма Серебрянский, светлая ему память. Один из таких — Яша Вайнблат.
Военнопленный, чуть не помер в лагере на Широкой, удрал оттуда в гетто и попал в «оперативники». Вижу, парень вроде неплохой. Поговорил с ним по душам.
— Яша, судьба твоя незавидная. Ты ведь пособник немцев.
— А что делать? Я бы ушел в отряд, но как?
Вскоре представился случай убедиться в честности Яшиных намерений, в его преданности.
На бирже труда имелась комната, где находился старший над сторожами Левин (по заданию подполья я устроился работать к нему). В соседней комнате — «оперативники». Я вошел к ним. Яша меня увидел, мигнул: дескать, есть разговор. Мы вышли.
— На Шевченко, тридцать один, сборище, готовятся уйти в партизаны, — зашептал он. — Только что поступил донос.
Доверял, значит, мне. Бросился я по указанному адресу. Предупредил: сейчас начнут окружать дом, бегите. И точно, прибыли Готтенбах с собакой, полицаи и Эпштейн. В доме пусто, даже окурков нет — успела собрать их хозяйка-старушка. Никого не обнаружив, Готтенбах ударил ее по лицу. Эпштейн увел ее с собой.
Потом Яша спас мастеровых, которых за саботаж и порчу материалов хотели расстрелять. Он назвал несколько фамилий, я успел их предупредить.
После гибели Серебрянского во главе охраны порядка стал некий Берковский. Дрянь порядочная, алчный, за деньги и золото вычеркивал фамилии подлежащих уничтожению. Гетто мелело, а немцы требовали рабочую силу Каждый уход в партизаны становился заметен. Поэтому Берковский лютовал вовсю.
Опять же через Яшу я смог договориться с несколькими «оперативниками», чтобы никого не выдавали. За это обещал им вывести в лес. Обещание постарался выполнить. Придя в отряд, я с согласия командира попросил проводника вернуться в гетто и забрать Яшу и некоторых других, в ком был уверен. Но Берковский что-то заподозрил. Эсэсовцы окружили дом, где Яшина группа дожидалась проводника. Берковский потребовал открыть дверь. Яша начал стрелять. Все, кто находились внутри, погибли.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
…»Слушает московское радио», «подозревается в связи с еврейкой И. Штейн».
Из личного дела гауптмана Вилли Шульца
Елизавета Гуткович:
…Он взглянул на нее, и словно молния высветила пространство, отделявшее гауптмана от высокой, прекрасно сложенной, с тяжелыми каштановыми в рыжину волосами юной еврейки. Офицер поздоровался с ней, улыбнулся, начал о чем-то оживленно расспрашивать. Мы с недоумением и любопытством наблюдали за ними…
Ежедневно от биржи труда юденрата уходили в город рабочие колонны. Одна из них направлялась во двор здания прежнего Дома правительства. Там мы разгружали и укладывали дрова, торф, а потом на вагонетках подавали в котельную. Мы — это сто наших и столько же немецких евреек, их называли «гамбургскими», хотя евреи были собраны и доставлены в минское гетто со всей Германии. Выглядели «гамбургские» женщины несравненно лучше нас — покуда еще свежие, упитанные, не говоря об одежде. Словом, никакого сравнения. Их только-только стали гонять на работу, а мы… мы уже доходили.
Прежний Дом правительства как бы делился на отсеки располагались в них летчики, железнодорожные войска и какое-то полевое армейское подразделение. Женская колонна работала в авиационной части. Инспектором над еврейской рабсилой назначили гауптмана интендантской службы Вилли Шульца. Лет ему на вид было сорок шесть — сорок семь, среднего роста, тонкогубый, бесцветные, как у большинства немцев, глаза. В общем, ничего приметного. Фашистом по духу я бы его не назвала, однако злобы, мстительности в нем хватало. По моей вине при разгрузке небольшой кусок торфа отлетел и попал в голенище сапога. Он «повоспитывал» меня рукояткой нагана.
Вечером второго марта сорок второго колонну не пустили обратно в гетто, загнали в Столпецкий переулок. Приехал гестаповец Готтенбах и начал отбор: мастеровых в одну сторону, остальных в другую. Мы уже знали: у мастеровых есть шанс уцелеть. Все должны были пройти через Готтенбаха с документами. В аусвайсе у меня — «чернорабочая-торфовоз», а в немецком паспорте — «портниха». Показываю оба документа. Зверюга Готтенбах читает, потом верещит как резаный: «Ну и что, что портниха!» — и с силой толкает меня в сторону мастеровых. Так я и не поняла, к чему он про портниху… Видимо, чернорабочие им тоже требовались.
Наутро иду к юденрату. Шульц новую женскую рабсилу набирает взамен убитых вчера: сто наших и сто «гамбургских». А зрительная память у него феноменальная. Тычет пальцем: «ты осталась», «ты осталась» — в живых, значит. Всего пятерых насчитал из наших.
Обходит «гамбургскую» группу. И вдруг замирает возле рыжеволосой девушки лет семнадцати-восемнадцати, глаз с нее не сводит, быстро спрашивает о чем-то, та отвечает, он ей улыбается. Такое ощущение, будто старые знакомые встретились.
Идем на работу. Шульц на каждую вагонетку ставит по пять «гамбургских», а нас — по трое. Вроде жалеет приехавших из его Германии. Улучив момент, заговариваю (немецкий немного знаю) с рыжеволосой красавицей (и впрямь хороша, загляденье), знакомлюсь. Ильза Штейн, из Франкфурта-на-Майне. В гетто с конца ноября. С нею здесь отец, мать, две сестры, старшая и младшая.
В обед Шульц дает Ильзе котелок супа и полбуханки хлеба. А нам, как обычно, баланду.
Через несколько дней — новые чудеса. Бригадиром всей колонны назначают Ильзу Штейн, а меня — за что такая честь! — ее помощницей. Обязанности наши простые: брать у Шульца талоны на обед, что дает ему повод вызывать нас к себе. Он и пользуется этим, получив возможность общаться с Ильзой наедине. Да и я частенько в его конторке бываю.
— Скажи, Лиза, почему вас, евреев, убивают? — как-то спрашивает он меня.
Хотела я ему прямо в лоб: «Это вас, гитлеровцев, спросить надо», — да, честно признаться, побоялась. Ответила уклончиво:
— Откуда мне знать…
— Я участвовал в прошлой войне и ухаживал за еврейскими девушками. А теперь вынужден заставлять вас возить вагонетки.
Вон как заговорил. Начинаю смекать: виной тому — Ильза. Очень уж она Шульцу по сердцу пришлась. Уж не влюбился ли? А гауптман чем дальше, тем больше дает поводов для таких мыслей. С Ильзой и со мной откровенничает, не боится. И вот однажды вызывает меня к себе в контору одну. Глаза по-человечески печальные.
— Скажи, как спасти Ильзу? Я люблю ее. Если она уйдет из гетто, то спасется, а иначе вас всех уничтожат.
Я молчу. А он опять ко мне чуть ли не с мольбой
— Что делать?
— Надо достать чистый немецкий паспорт, — даю совет.
Он загорается.
— Я достану два паспорта, ей и тебе.
Наутро приходит к юденрату поникший.
— Ничего не вышло с паспортами.
Текут недели. 28 июля сорок второго начинается жуткий погром. Шульц узнает о нем и не пускает нас обратно в гетто. Всю колонну — двести женщин — запирает в слесарной мастерской на ночь. Рискует многим, и все ради Ильзы. Чтобы сохранить ей жизнь.
Она рассказывает мне: Шульц приходит в гетто, помогает ей продуктами, а положение ее тяжелое, такое же, как у многих из нас: мать умерла от тифа, отец расстрелян.
Бегут месяц за месяцем.
На территории Дома правительства в слесарной мастерской работает мой хороший довоенный знакомый Сергей Герин. По секрету сообщает: советские войска бьют фашистов под Сталинградом. Близится и наше освобождение. А Шульц опять ко мне подступает— как спасти Ильзу? Я возьми и выскажись открыто, без утайки, будь что будет:
— Нас Красная Армия спасет. Под Сталинградом вам капут.
Он как взовьется:
— Откуда ты знаешь?
— От людей слышала.
— Я не имею права слушать советское радио. Меня за это… Ты будешь слушать, — внезапно решает он. — Я тебя назначу убирать комнату в котельной.
В котельной имелось помещение для немцев-дежурных У них был приемник. Шульц и в самом деле переводит меня туда уборщицей. А правдивая информация с фронта ему позарез нужна. От нее может зависеть и его дальнейшая судьба. Потихоньку в обеденный перерыв, когда никого нет, я слушаю Москву.
Недолго, правда, это удается. Ловит меня один из немцев, случайно зашедший в комнату.

— Я сдам тебя в гестапо, — грозит он.
Бегу к Шульцу. На него вся надежда. По дороге натыкаюсь на Герина. Рассказываю ему, что мне грозит Про Шульца с Ильзой он узнал от меня раньше.
— Ночью к тебе домой придут подпольщики гетто, — неожиданно открывается Сергей. Начинаю понимать: он с ними связан. — А Шульцу скажи: так, мол, и так, меня засекли, мне грозит смерть, ухожу в партизаны. Одна ухожу.
Изложила все Шульцу, тот перепугался.
— Без тебя мне не спасти Ильзу. Дай подумать до утра.
А ночью ко мне действительно пришли двое. Один из них — Матвей Майзель.
— Надо использовать Шульца, достать с его помощью транспорт и уходить в лес, — советуют они и предлагают вариант операции.
Утром встречаюсь с гауптманом. На него жалко смотреть: синие полукружья под глазами, вид усталый, растерянный. Ночью он, судя по всему, не спал.
— Я тоже иду в партизаны, — объявляет он. Уговаривать его, таким образом, не приходится.
— Нам понадобится машина. Вывозить будем двадцать пять человек.
— Как? Я хочу только Ильзу и тебя.
— Двоих нельзя, герр гауптман. Он молчит. Мучительно думает.
— Хорошо. А куда поедем?
— Станция Руденск, якобы грузить цемент. В путевке должны быть указаны двенадцать женщин и тринадцать мужчин.
Шульц оформляет путевку. В нашем распоряжении трехтонка. За рулем немец, который не в курсе событий. Ильза берет с собой двух сестер, я — пятерых близких людей (подпольщики предоставили мне такое право). С нами два шофера-еврея и группа с оружием. Плохо одно — нет проводника из партизанского отряда. Ждать нельзя, надо ехать, другая такая возможность не представится.
Тридцатого марта сорок третьего выезжаем из Минска на Могилевское шоссе. Вскоре Шульц останавливает машину, залезает в кузов.
— Где ваш проводник?
— Нет проводника, — откровенно объясняем ему. — Есть три деревни: Русаковичи, Гореличи, Кобыличи, там должны быть партизаны.
Трудно описать перипетии дороги. Взорванные мосты, объезды… Водитель-немец начинает догадываться, куда мы едем и кого ищем, но выхода у него уже нет.
У деревни Русаковичи попадаем к партизанам. В хате Шульц форменным образом начинает сходить с ума, подхватывает Ильзу на руки, целует, обнимает:
— Я спас тебя, спас, золотая ты моя, жизнь моя! А к партизанам обращается на ломаном русском:
— Здравствуйте, товарищи!
Выучил заранее.
Я рассказываю партизанам, кто такие Шульц и Ильза и как мы оказались в лесу. Шульца отправляют в штаб 2-й Минской бригады, где он дает подробные показания. Потом мы расстаемся. Шульц и Ильза остаются в штабе, а я попадаю в один из отрядов бригады.
По слухам, некоторое время они пробыли в отряде Ваупшасова, а потом были отправлены в Москву Следы их затерялись.
Я считала, что Шульц и Ильза погибли. Столько лет прошло, и никаких известий. И вот 5 августа 1985 года звонит мне подруга Рая Гитлина, которая вместе с нами на той самой машине вырвалась к партизанам. «Лиза, срочно возьми сегодняшний номера «Вечернего Минска»!» Беру газету, читаю в разделе «Память сердца»: «Ильза Штейн в годы оккупации находилась в минском гетто. С помощью подпольщиков вместе с другими заключенными была переброшена в партизанскую зону. Прошу своих спасителей сообщить о себе по адресу: Ростов-на-Дону…»
Бегу на почту, даю в Ростов телеграмму с указанием своего номера телефона. Звонок из Ростова. «Кто это?» — «Лиза». — «Какая Лиза? Гуткович? Ой, я умираю…»
Говорили, плакали, снова говорили и снова плакали. Так нашлась Ильза.
История эта получила известность в Белоруссии. Иосиф Герасимов положил ее в основу повести «Побег», написанной в 1971 году. У художественной литературы свои законы, предоставляющие автору право вымысла. Писатель так распорядился судьбами героев: Ильза (в повести она Эльза) умерла через пятнадцать минут после родов; Шульц (Штольц), сломленный горем, пережил любимую на двое суток…
Что же произошло на самом деле после того, как самолет доставил их в Москву? Этого, казалось, никто никогда не узнает. Но жизнь дописала свой эпилог — со слезами и радостью.
Я встретился с Ильзой Штейн в Москве, мы проговорили несколько часов. Вот наиболее важная часть разговора.
Ильза Штейн:
В Москве мы очутились в начале октября сорок третьего. Поселили нас на даче в Малаховке. Шульца вызывали на допросы. Меня тоже подробно расспрашивали о гетто, о том, как познакомились с Шульцем, об уходе в партизаны.
В один из дней за Шульцем приехали… Мне сказали: «Он будет заниматься антифашистской деятельностью в лагере для немецких военнопленных. Встретитесь после войны». Но встретиться нам было не суждено…
Я уехала в Биробиджан. Там работала швеей на фабрике. Вышла замуж за офицера Советской Армии, вернувшегося с фронта. Пошли дети. В пятьдесят третьем переехали в Ростов-на-Дону. Я уже прабабушка…
Честно сказать, вовсе не питала уверенности, что найду кого-нибудь из тех, кто помог мне и двум моим сестрам оказаться у партизан. Нашлась Лиза Гуткович, и я сразу поехала в Минск. За час до прибытия поезда началась у меня истерика. Не могу взять себя в руки, рыдаю без конца…
С моими сестрами произошло следующее. Старшая погибла в деревне при нападении гитлеровцев. Младшая, восьми лет, куда-то исчезла. Пробовала ее искать — тщетно. По некоторым непроверенным данным, попала она в детский дом. В какой? Гуткович помогает мне, рассылает письма в различные организации, в газеты. Наконец удача. В архиве Пуховичского детского дома находится след: «Штейн Елизавета Ивановна поступила в Тальков-ский детский дом. Выбыла из детского дома в 1953 году в школу механизации сельского хозяйства».
Снова ищем. Приходит письмо из Пуховичей: «Я знала вашу сестру. Она работала вместе со мной в пекарне. Жила на квартире у Карчевской Анастасии Николаевны. Вот ее адрес…»
Гуткович — мигом к Карчевской. А та, как видно, гостит у дочери. Где дочь живет, никто из соседей не знает. Гуткович молодец, не теряется, находит сестру Карчевской. Та вспоминает: «Ваша Лиза вышла замуж и уехала в Астрахань. А сестра сейчас в Волковыске».
Вызываем Волковыск, ищем Карчевскую. Получаем от нее подтверждение про Астрахань. Она никак не может вспомнить фамилию мужа моей сестры. Дни бегут Наконец Карчевскую осеняет: «Вспомнила, фамилия мужа Манжосов!»
В Астрахань поехал мой муж Аркадий Семенович. Я передала ему единственную святыню, пронесенную через все испытания, — семейные фотографии. Через горсправку он узнал адрес. И вскоре я услышала голос сестры по телефону. Затем встреча в Ростове, через столько лет…
А что же произошло с Шульцем? Я задал этот естественный вопрос в конце разговора с Ильзой Штейн. Что-то мешало задавать его раньше, какая-то неловкость, недоговоренность, словно я прикасался к чему-то хрупкому, легкоранимому, наподобие крыльев бабочки, с которых неосторожно снимал пыльцу. Ведь гауптмана когда-то связывала с еврейкой из гетто настоящая любовь.
— По недавно полученным мною сведениям, он умер в лагере для военнопленных в Красногорске.
Ильза произносит слова медленно, как видно, они даются ей нелегко. Я молчу. Но мой самый последний вопрос безмолвно витает в воздухе, не почувствовать его невозможно. И Ильза после долгой, протяжной паузы произносит
— Скорее всего, он не перенес разлуку,.— как бы подтверждая то, о чем я подумал в тот миг
Любила ли она его? Не беру на себя смелость утверждать это, не имею на то морального права. Никогда не спрошу об этом Ильзу. Запрет, вето, табу. Любовь палача к жертве и любовь жертвы к палачу — не одно и то же. Впрочем, бывает и по-другому. На эту тему снят известный фильм «Ночной портье». Хотя какой же Шульц палач’ Интендант. Хозяйственник, как сказали бы сейчас. Но он носил форму, немногим отличавшуюся от гестаповской и эсэсовской, олицетворял собой все то, что в конце концов погубило еврейскую семью из Франкфурта-на-Майне, тысячи, миллионы других семей.
Впрочем, не будем домысливать. Сие есть тайна великая. Пусть в памяти сохранится история любви гауптмана Шульца —несколько светлых строк, вписанных в горестную историю минского гетто.
***
Работая над вторым изданием этой книги, я смог выяснить подробности биографий наших героев, прежде мне неизвестные.
Вилли Шульц был капитаном люфтваффе. После полученного ранения в боях на Западном фронте был направлен в Минск, где был назначен руководителем интендантской службы.
Узники минского гетто возили торф в котельную подразделения люфтваффе, располагавшегося в здании Дома правительства БССР.
Летом 1942 года Шульц влюбился в 18-летнюю Ильзу Штейн из Франкфурта-на Майне, прибывшую в колонне немецких евреек, депортированных в минское гетто. С целью облегчить ей жизнь он способствовал назначению её бригадиром, а другую девушку — Лею (Лизу) Гуткович (по просьбе Ильзы) — её помощницей; снабжал девушек едой из офицерской столовой.
В личном деле капитана появляются такие записи: «Тайно слушал Московское радио»; «В январе 1943 г. сообщил трём евреям о готовящемся погроме и тем самым спас им жизнь».
Узнав, что на 28 июля 1942 года в гетто намечена очередная массовая расправа над евреями, Шульц, чтобы спасти Ильзу и других, задержал их в Доме правительства на три дня. Начальство не оставило без внимания этот поступок офицера, в его личном деле появилась запись: «Подозревается в связи с еврейкой И. Штейн».
Шульц предпринимал несколько попыток своими силами организовать побег Ильзы, но безрезультатно.
В связи с повышением Шульца должны были перевести на службу в другое место, и, чтобы остаться с девушкой, он решил дезертировать, взяв её с собой. По совету Леи Гуткович, которая была связана с партизанским подпольем, Шульц решил уйти к партизанам, но планировал побег лишь для себя, Ильзы и Гуткович, поскольку она знала русский язык.
Партизанским подпольем решено было использовать Шульца для организации побега из гетто большой группы, и был разработан план, по которому Шульц должен был достать грузовик и выписать путёвку на 25 человек, которые в качестве «рабочих» едут на станцию Руденск грузить цемент.
30 марта 1943 года группе удалось совершить побег. В группу, помимо Шульца, вошло 25 человек из гетто: 12 женщин и 13 мужчин (в том числе Ильза, две её сестры 19 и 8 лет, Лея и её муж).
Выехав за территорию, машина поехала не к месту разгрузки вагонов, а в сторону леса. Когда шофер, юный фельдфебель, заподозрил неладное и попытался бежать, он был застрелен. В условленном месте за рекой Птичь беглецы были встречены партизанами отряда им. Сталина (Вторая Минская партизанская бригада).
Шульц сообщил партизанам расположение немецких сил в районе Минска. В сентябре 1943 года Вилли и Ильзу самолётом переправили за линию фронта. Они два месяца прожили вместе в Малаховке под Москвой на даче НКВД. Затем Шульц был направлен в Центральную школу антифашистов (спецлагерь НКВД № 27) в Красногорске; имеются сведения, что его готовили к подпольной деятельности. 31 декабря 1944 года он скончался от менингита и был похоронен на северной окраине спецлагеря № 27.
Ильза, которая ждала ребёнка, была направлена в Биробиджан. Она родила мальчика, который вскоре умер. В дальнейшем работала закройщицей на швейной фабрике, вышла замуж и в 1953 году переехала в Ростов-на-Дону, где родила дочь. В августе 1985 года через письмо в газету смогла найти Лею Гуткович и встретиться с ней.
В 1990 году вместе с дочерью побывала в Германии.
Умерла 20 апреля 1993 года.
Согласно одним источникам, Ильза говорила, что всю жизнь любила Шульца. Однако в статье внука Ильзы Штейн приведены воспоминания дочери Ильзы — Ларисы, по словам которой, Ильза ненавидела Шульца, а всё, что она делала, было исключительно ради спасения жизни — её и сестер.
Сёстры Ильзы Штейн не были переправлены в Москву, а остались в партизанском отряде. Старшая, воевавшая в отряде, погибла во время одной из операций. Младшую, Лизу, Ильза нашла в конце 1980-х в Астрахани.
В 1994 г. об истории Вилли Шульца и Ильзы Штейн в Германии был снят документальный фильм «Еврейка и капитан» реж. Ульф фон Мехов.
В 2012 году вышла книга Йоханнеса Винтера «Потерянная любовь Ильзы Штейн. Депортация, гетто и спасение».
По некоторым данным, у Вилли Шульца в Германии была семья, жена и двое детей. Об их судьбе мне ничего не известно.
Конец
Давид Гай
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
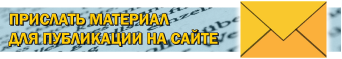
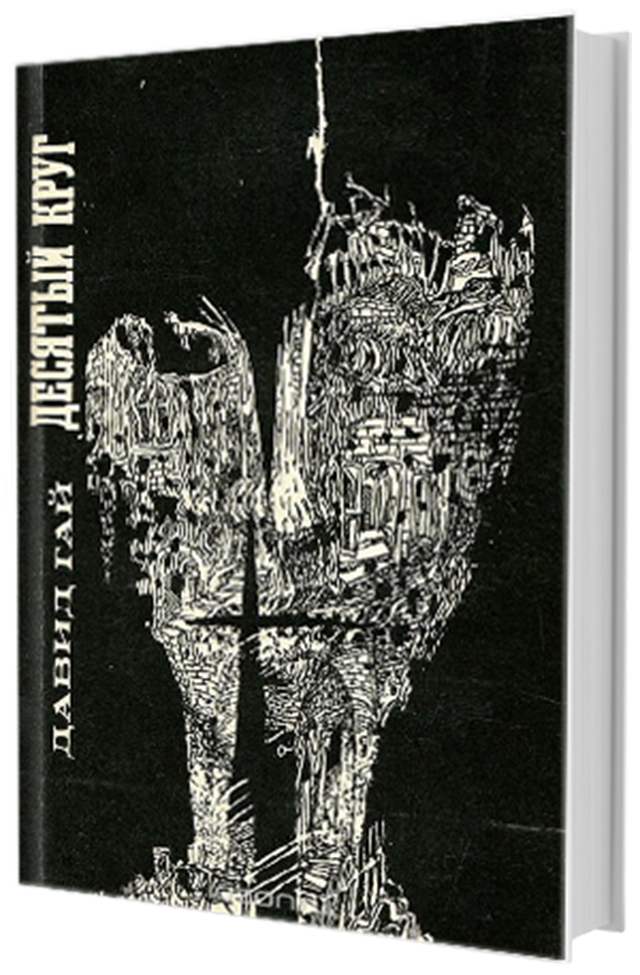




Slotsouro, that’s an interesting name! So I tested some different slot games. Nothing really jumped out as exceptionally great, but lots of classics. I’d say it’s worth a peek if you are in the mood. More info: slotsouro
Bussbet’s kinda new to me, but so far so good. Decent odds and pretty easy to use. Worth checking out if you’re looking for something different: bussbet
Heard good things about gamev9. Gonna check it out for some chill gaming sessions. Hope it lives up to the hype! Check out gamev9
Time to check out bk664epson! Wonder what they’re offering and if its worth the buzz. Hope I find some great deals. Browse the selection at bk664epson
Alright folks, checking out bj326game. Could be a banger, could be a bust. Only one way to find out. Gonna roll the dice! Have a look at bj326game.