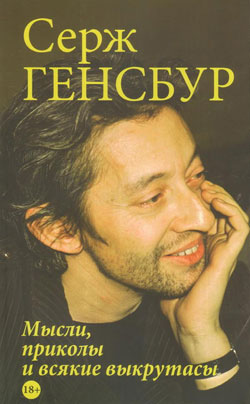 Serge Gainsbourg. Pensees, provocs et autres volutes
Serge Gainsbourg. Pensees, provocs et autres volutes
LE CHERCHE MIDI EDITEUR
Серж Генсбур. Мысли, приколы и всякие выкрутасы. Пер с фр. Д. Савосина. – Москва: Текст, 2018
О недавнем нашем современнике, французе с еврейскими корнями Серже Генсбуре (1. певце, композиторе, поэте, сценаристе, режиссере, артисте; 2. скандалисте, фрондере, анфан террибль, сквернослове, возмутителе спокойствия – и так далее в любом направлении) в старом Свете и в Новом Свете знают почти все. В том смысле, что имеют о нем терпкое, стойкое и вполне определенное представление. Нарушитель норм, богема, почти гений, любитель женщин. И снова многоточие. Но прочитав в книге «Мысли, приколы и иные выкрутасы» его максимы – будь то афоризмы, записи, стишки, порой скабрезного содержания, ответы на вопросы журналистов – понимаешь, что Серж Генсбур был прежде всего человеком талантливым, честным и искренним. А все остальное – не эпатаж, а производное от всех тех определений, которые перечислены выше. И других, которые можно записывать подряд из словарей синонимов, толковых и иных. По вкусу и выбору.
И очень может быть, что Серж Генсбур был гением, в творчестве проявившим разнообразно свои дарования и намерения. Но нормальному человеку, пусть и крайне талантливому во всем, наверное, скучно быть гением, то есть, играть роли того, кого окружающие почитают, к кому относятся с пиететом, как бы боготворят при жизни. Поэтому Генсбур был честен с собой и с другими. Он написал, что маска, которую он на себя надел, пристала к лицу, и ее уже невозможно снять. Однако, парадокс в том, что каждый его тезис правдив и неоднозначен одновременно, потому что все так и не так, господа. Он антибуржуазен и буржуазен без сомнения. И ему нравится эта игра на публику, поскольку Серж Генсбур был прежде всего блестящий актер (да, и художник по молодости, и музыкант тапер). В чем-то он тем самым похож на Хаима Сутина или Владимира Маяковского. Первый понял, что его вызывающе антиэстетичные картины имеют успех, и стал тиражировать их до конца жизни. Другой поиграл в итальянский футуризм на российской почве, а потом безоговорочно принял революцию, считая, как и Маринетти, войны и революции продолжением искусства, разрушающего старые стереотипы мышления и уклад жизни. А после, показав лояльность новой власти, застрелился от того, что преданность поэзии гораздо важнее была почитанию социальных перемен.
Так вот, Генсбур – честен. Его «Нате!» только кажется вызовом устоям общества, в котором он живет. Это не поза, не декларация, а его естественное поведение там и тогда, где только таковым можно быть самим собой. И ему меньше всего нужно оправдание, что-то в духе психоанализа – трудное детство, немецкая оккупация Франции, ночные выступления в барах, а потом богатство и успех. Трогательным кажется вывод, который он приводит в своих записках, цитируя дочь Шарлотту. Увидев, что он начисто побрился, она высказалась – подростком будучи – что он такой гладкий и противный.
Меньше всего Генсбур был клоуном или обличителем. Это меньшее, что про него можно сказать. Не был он и пророком, потому что убегал от этой роли в разврат и алкоголизм, оставаясь стеснительным еврейским юношей, который достиг многого и в жизни, и в творчестве, но не обретшим душевное равновесие. Заметим, оно и не могло бы быть по определению – сладкоголосым певцом шлягером Генсбур вряд ли мог ощущать себя адекватно, бунтарем и рокером – тем более. Он, что подчеркнуто в его размышлениях о студенческих волнениях в Париже 1968 года, наблюдатель. Умный, чуткий и правдивый. От него всегда ждали какого-то скандала. И, только кажется, что он подыгрывал чужим ожиданиям на его счет. Мол, вы хотите, чтобы я вас разозлил, чтобы вам стало не по себе из-за меня – пожалуйста. Но в его эпатаже было нечто большее, чем желание обратить на себя внимание и побесить благообразных французов или не только их. Другое дело, что, если бы ему сказали, что у него есть миссия показать банальность того, что принято за правильные отношения в социуме, он вряд ли бы удержался от иронии или даже самобичевания. Хотя нечто подобное, пусть не как сверхзадачу, но как потенцию таковой в себе, несомненно, ощущал. В его песнях (которые в переводе тоже вошли в эту книгу) есть то, что сейчас в России называют стебом, при том, что есть в них и ощущение слова, игра с ним, не выворачивание гиньоля наизнанку, а обозначение его именно как того, что другим не нравится, но они притерпелись к непотребству и дурноте от него.
Повторим, Сержу Генсбуру меньше всего и теперь, после его ухода, нужно оправдание. Он жил так, как считал нужным. Это со стороны лишь воспринималось, как бунтарство. А он только выбрал сам то, что стало его творчеством и саморазрушением, образом и смыслом жизни. Потому что не возникло ничего другого на его горизонте, к чему бы ему хотелось стремиться. Быть может, Генсбур и хотел быть таким, как все, но по мировосприятию, в том числе, и в связи с происхождением, он в чем-то ощущал себя изгоем. Нередко из-за этого пишет о себе как об уродце с большим носом, который, по известной пословице, сует везде и куда не надо порой. Опять же, дело не в психологии, не в том, что Генсбур достаточно странно ощущал себя евреем с русскими корнями во Франции. Скорее все же в том, что он ощущал себя чужаком даже не из-за национальности, а потому, что хотел быть открытым и добродушным, любить жизнь и людей без всяких условностей и преград. Но не мог этого добиться ни тогда, когда не был знаменитым, ни, тем более, тогда, когда таковым стал, хотя и это ему могло быть скучно. (Вряд ли он читал пастернаковское –
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех –
но жил как раз в контексте строчек классика русской поэзии двадцатого века, как будто бы они написаны конкретно про него, шансонье Сержа Генсбура.)
Несомненно, что ему суждено было во всех своих поведенческих реалиях быть вписанным в свое время, не как исследователю и экспериментатору, а как испытателю жизни, каковым он и был, правда, проверяя не бытие, а исключительно (!), да-да, исключительно – себя на прочность. С отвагой и раскованностью, как бы свободой от всего, за что держатся или делают вид, что принимают за значимое другие.
Так что, в его жизни, какой он ее сочинил и исполнил сам для себя и для остальных – все логично до невероятия, трагично и последовательно. Если бы после всего, что осталось от него в искусстве, как след и послевкусие, не было горечи. Не потому, что совершенство его достижений походило на увлечение абсентом в начале прошлого века, а потому, что он, несомненно, мог сделать больше (не лучше, отнюдь, а больше, не эффективнее, не талантливее, а позитивнее). И это был бы не другой человек вовсе, а тот же самый любимец публики и нарушитель спокойствия Серж Генсбур, который преодолел бы притяжение избранной роли и сосредоточился на чем-то одно без понтов. Как теперь говорят в России, и уверенности в том, что других вариантов для его самовыражения нет. Но это была бы его жизнь, но другая. Хватило бы у него сил перепрыгнуть самого себя – неизвестно, да и бесполезно по данному поводу теоретизировать.
И, может быть, поэтому, не будучи в мнении большинства несчастным, не считая себя таковым, Серж Генсбур являлся прежде всего человеком одиноким. В том смысле, что казался себя одним не из многих (как может подуматься при его славе и удаче), а одним и только одним, что характерно порой для больших поэтов, каковым Генсбур несомненно был. Но его истина, к которой он обращался, и которую выражал так классно и классично вместе с тем, оказалась чересчур приземленной, низовой и бульварной по-своему (кстати, в связи с этим перевод текстов Сержа Генсбура, который сделал Дмитрий Савосин, кажется излишне приглаженным и не столь аутентичным не с литературной, а с содержательной точки зрения; ему не хватает той шершавости и изломанности, что отмечено, в том числе, фото мятой бумаги, на которой курсивом, как на начале главы, написаны некоторые афоризмы Генсбура, настоящего поэта, возможно, чем-то похожего, но не в той степени радикальности, и на американца Аллена Гинсберга, современника, ровесника и альтер эго, если такое сопоставление не представляется нарочитым).
Серж Генсбур, выпустивший два десятка альбомов, снявшийся примерно в таком же количестве фильмов, поставивший четыре, как режиссер, прожил чуть больше шестидесяти лет ярко, сильно и запоминающе, не будучи примером для подражания, но оставаясь и сейчас легендой, символом своего времени, которое вместило в себя довоенные десятилетия, войну и все, что было после нее в самых различных проявлениях общественного сознания и его выраженности в искусстве и в политике. Несомненно, что он достоин своего почитания, иронично относившийся к себе и к популярности, грустный шут шекспировского масштаба, которому суждено было стать на виду у всех не лицедеем и провокатором, а блаженным в любом смысле слова, как бы он ни относился к религии и вероисповеданию. И поэтому он не мог не остаться до сих пор интересным, что показывает и выход в России книги «Мысли, приколы и всякие выкрутасы». Из предисловия переводчика ее на русский язык следует, что она была составлена, вероятно, не самим автором. И в ином случае, в авторской редакции могла бы прозвучать острее и жестче, но и то, что композиционно выстроено с некоторым намеком на главы, раскрывающие разные стороны взглядов Генсбура на жизнь, поучительно и любопытно само по себе, выражая в меру аутентично его «я», его ауру и его саморазоблачение, сравнимое с игрой и перфомансом, в чем Серж Генсбур, несомненно, был мастер. И, что вполне возможно, даже опередил свое время, показав, каким может быть артист в шоу-бизнесе, живя по его законам и издеваясь над ними, насколько это возможно и некритично для творчества.
Теперь записи Генсбура воспринимаются как литературное произведение, дневник человека, который открыт жизни и не боится быть вне рамок и стандартов массового мышления. И ясно ведь, что нет ничего удивительного в том, что его высказывания, которые могли казаться скандальными, были и остались актуальными, точными и понятными для современников. И не утратили поэтому своей правильности, выраженной в остроумной форме, и сейчас, теперь, в наше реальное время.
P.S. Потому цитировать его высказывания можно от начала и до конца, ну, пусть, хотя бы только эти…
Серж Генсбур
Мысли, приколы и всякие выкрутасы
Я не хочу, чтобы меня любили, и все-таки хочу.
*
Я не от мира сего. Я вообще ни от какого мира.
*
Мы живем в эпоху науки, которая оставляет меня совершенно равнодушным, впрочем, так же как и политика или социальный протест.
*
Нужно петь о любви, о прекрасной любви, когда все из рук вон плохо. А если вам хорошо – пойте о расставаниях и злодействах.
*
Мои песни – это мое ремесло, моя рабочая одежда; но в обычной жизни я остаюсь самим собой, я нечто другое. Другое и при этом немного покладистей.
*
Я мелкий воришка, большой лгунишка, игрок по-крупному, едкий, депрессивный, заядлый пессимист, гордец, изгой, вездесущ, неумеха, наркоман и вспыльчивый.
*
Неприятные лица вроде моего обладают выразительностью – и, когда исполняется сорок, начинают казаться интересными.
*
А представьте себе, между прочим, что физически я стыдлив; это в духовном плане не стесняюсь уже ничего.
*
Я сказал бы, что моя техника – как у японского художника, который три месяца просто смотрит на цветок, а потом за три секунды рисует его. Такую технику трудно обрести. Я работаю очень быстро… Это никакая не халтура. Все оформляется в моем бессознательном, а потом выплевывается, когда доходит до крайности на этих сеансах наблюдения.
*
Я честнее всех этих улыбчивых певцов, которые заявляют, что обожают свое ремесло, свою публику. Кругом все прекрасно, небо голубое… И это им-то на все наплевать? Это они-то и есть циники? А, может, просто немного придурки? Это могло бы примирить меня с ними…
*
Я в высшей степени приличный мальчик. Вот этой самой приличностью я как раз и неприличен…
*
Надо различать застенчивость и сдержанность. Я слишком сдержан? Это возникло оттого, что я всегда был одинок и никогда никого не допускал в свои тайные помыслы.
*
Я скорее пофигист, чем нигилист, это немного иной оттенок чувства. Потому что итог нигилизма – револьвер.
*
Я пользуюсь средствами медиа, мне необходим равносторонний треугольник пресса – радио- телевидение. Без них меня просто нет.
*
Носить маску – это защитная реакция. Я думаю, что если когда-то надел маску и ношу ее уже лет двадцать – то теперь мне ее уже не снять, она приросла к моей коже. На поверхности весь карнавал бытия, а загляни вглубь – там лицо негра: вот это я и есть.
*
У меня нет ни малейшей претензии быть самим собой.
*
У меня зоркий взгляд, способный проникать в самые глубины души.
*
Я – живой миф, это на несколько ступеней выше, чем звезда.
*
Одиночество – мое естественное состояние. И оно мне в радость. Это как дар Провидения. Мне не нужно ничего предпринимать, чтобы стать одиноким. А между тем в моей среде так трудно уединиться. Я не создан для жизни в толпе. Единственная приятная мне компания – это девушки; вот среди них я чувствую себя как дома.
*
Живопись оставила во мне след. С ее помощью я прикоснулся к большому искусству, которое принесло мне чувство уравновешенности, интеллектуальной уравновешенности. Песня и слава меня из уравновешенности выводят.
*
Я мог бы заниматься живописью, но опасался богемы, считая ее старомодной. И бросил.
*
Я действительно хочу казаться непонятным в живописи, но никак не в песнях. Претенциозно утверждать, что пишешь для меньшинства; сразу подумают, что меньшинство означает элиту. Ну нет, я-то хочу писать для большинства.
*
Решив, что у большинства французов аллергия на современный джаз, который в те времена я так любил, я решительно бросил им заниматься и перешел на поп-музыку. Поп-музыка вовсе не означает « популярная музыка», в этом плане я ничего особенного и не сделал. Сами знаете, что по-французски означает слово «делать»…
*
Я не иду на уступки, немного продаю себя, но только не в пригородах.
*
По мне, роскошь – забавная штука. Для меня роскошь – это полнейшая утрата всякого представления о деньгах. Этого я как раз и достиг.
*
Я окружаю себя драгоценными вещицами, загромождаю свое жилище бесполезными и очень красивыми предметами, чтобы легче переносить одиночество, придать ему хоть чуточку роскоши.
*
Не желаете ли маленькую чашечку тоски?
*
В искусстве обязательно должна быть ясность… А ясность приводит или к неврастении, или к насмешливой язвительности. Когда они соединяются вместе, это придает моим песням нечто вроде горького юмора.
*
Женщин нужно воспринимать не такими, какие они есть, и оставлять на их совести то, что они представляют собой на самом деле.
*
Я ненавижу шоу-бизнес, и люди, населяющие эту среду, кажутся мне совершенно невыносимыми из-за своей озлобленности. Они ворчливые сплетники и завистники, а я ни то ни другое.
*
Я делаю свое дело, я шоумен. А кроме того меня это все забавляет – бросать вызов. Это будоражит, создает шумиху, которая мешает мне положить на все, положить на жизнь.
*
Бросать вызов – все равно что отдавать приказы. Это приводит к поединкам, к неприятию, бунту. Но еще и к союзам, к дружеским связям. Иногда может и построить всех по струнке –, ну, кроме нескольких продажных душонок в процессе ломки…
*
Я как бы сказать, слишком непринужденный. Не будь я во всех смыслах вызывающим – я угасну. Из моей жизни исчезнет драйв.
*
Провокативность – двигатель моей жизни; есть те, кто пишет как лицейский преподаватель, а вот я предпочитаю ломать перья и сажать кляксы.
*
Скандал – это потребность духа. Когда взмываешь за облака, возникает зона турбулентности. Пристегните ремни. Будьте начеку. Сейчас затрясет… Но как же это здорово. Я-то люблю всяческие запреты, это подтверждает, что табу еще живы. Сойти с ума – мы живем в конце ХХ века, а еще существуют табу.
*
Кто говорит, что я повторяюсь? Я очень трезвомыслящий человек, все о себе знаю. Иногда сам на себя очень злюсь – может, и слишком. Но вот ерунды говорить не надо – такое могут пороть одни старые козлы. Мне еще очень многое нужно сказать.
*
На самом деле я музыкой сыт по горло. Если я и делаю новый альбом, то лишь чтобы доказать самому себе: я – лучший, И вписать огненными буквами: в малом жанре…
*
Я в основном хочу делать именно то, чего от меня ждут эти ребятки. А ведь это называется удачей, разве нет?
*
Я профи, но главное – я искренен. Позволь я себе фальшивить, и все бы пропало. Ушлая публика вычислила бы меня в два счета.
*
В конечном счете, хотя об этом мало кто знает, я так и остался скромным и замкнутым ребенком, в котором уживаются душевная чистота,, невинность, бунтарство и дикарство.
*
Я – ходячее оскорбление спорту: при таком образе жизни по-прежнему в неплохой форме.
*
Я держу у себя дома пули, но вот револьвера у меня не было никогда. Не хочу, чтобы однажды, в белой горячке, в приступе хандры…
*
Я – уже миф. Говорю это без всякой гордости. Это закончится только с моей смертью. И еще: я останусь в памяти людей всего на несколько лет.
*
Слава отчасти разрушила меня. Разрушила мою душу, мое сознание и подсознание. Это чудовищное раздвоение – уметь концентрироваться и на том, что ты на самом деле есть, и на своем не-я, то есть быть одновременно и обычным парнем, и шоуменом… Но я, в конце концов, думаю, что у меня достаточно совести, чтобы не раздувать жабры от гонора. Это ремесло чрезвычайно жестокое, ибо приходится раздавать себя, свою душу, лицемерить тут не годится… А искренность дается дорого, очень дорого.
*
У меня есть все, но нет ничего. Я все имел, а теперь не имею ничего.
*
Мне странна мысль о счастье – я ее не постигаю и я его ищу.
*
Память последующих поколений – это слеза в бесконечности.
*
Журналист. Вы – отчаявшийся?
Генсбур (расхохотавшись). Я трезвомыслящий. Невозможно быть очень счастливым человеком с такой трезвой головой, как у меня.
*
Даже такой невзрачный простолюдин, как я, заработал несколько телеграмм от высшего общества.
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке


