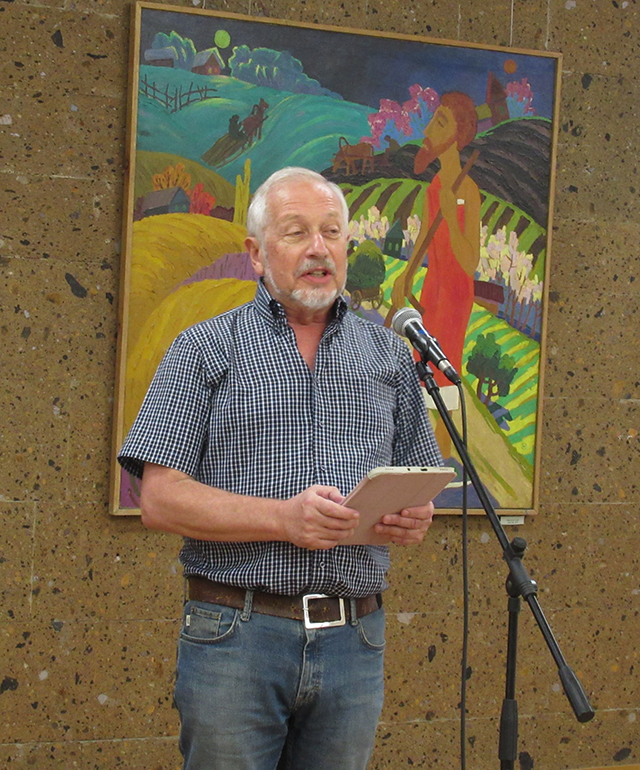ДИСКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ
Стихи, написанные в 80-х и 90-х годах ХХ века
ГАРМОНИЯ
Смирению, о время, научи
и к созерцанью обрати сердца.
Пусть непереводим язык свечи,
дрожащий возле самого лица,
но взгляд слетает бабочкой на свет,
как будто этот маленький магнит,
освобождая от дневных сует,
сознанье с бесконечностью роднит.
Неверен свет, душа вещей темна,
но, принимая правила игры,
припомнить их дневные имена
я даже не пытаюсь до поры.
Слова, покинув освещённый круг,
утрачивают зримые черты,
как контуры твоих усталых рук,
как вся ты за чертою немоты.
Дай, время, на ветру твоём сберечь
короткое дыхание свечи,
и души, обречённые на речь,
молчаньем в знак согласья обручи.
И возроди из тьмы и немоты
гармонию земного бытия,
когда душа с душою не на «ты»,
а, кажется, почти уже на «я».
Не знаю, чем тишайший этот миг,
мы у судьбы сумели заслужить,
но завтрашний многоголосый мир
его уже не сможет заглушить.
А за окном плывёт рыбачка-ночь,
покачивая звёздный свой улов,
да ветер, уносясь куда-то прочь,
насвистывает песенку без слов.
***
Продираясь сквозь жёсткий кустарник наверх,
ветер с моря по склону рванётся ко мне
и, ужом прошуршав в пересохшей траве,
влажным боком коснётся нагретых камней.
И смешаются запах цветов и воды
и давно позабытых имён аромат.
Будет время вынюхивать чьи-то следы
и, как пёс, по следам возвращаться назад.
Запропало в веках золотое руно.
В легендарной Колхиде − курортный сезон…
Только губы Медеи хмельней, чем вино,
и друзей на «Арго» созывает Ясон.
Всё ещё впереди. Неизвестен итог.
Напрягаясь, на вёсла гребцы налегли.
Бог − любовь, а руно − это только предлог,
чтоб вести корабли хоть до края земли.
Там гремит Океан. Там бессонно горит
незакатное солнце над кромкой воды.
Там на древе познанья в саду Гесперид
в сентябре наливаются соком плоды.
Но, судьбу торопя, мы стремились вперёд,
нетерпеньем наполнив свои паруса,
чтобы раньше доплыть, чтоб приблизить черёд
хоть на год, хоть на день, хоть на четверть часа.
Неужели же мы ускоряли гребки,
заклинали удачи морскую звезду
лишь затем, чтоб узнать, как бывают горьки
недозрелые яблоки в райском саду?..
Нам чужие уроки до срока не впрок.
Плетью лет на излёте отброшенный прочь,
вдруг пойму, что подходит мой собственный срок,
а героям моим всё равно не помочь.
Я летейский рыбак. Но из этих глубин
даже мне не извлечь бесполезных сетей.
Там под толщей времён, под рутиной руин
остывают осколки погасших страстей.
Я держал их в руках. Я горел в их огне,
принимая всерьёз и на собственный счёт.
А быть может, все только почудилось мне…
Где-то пальцы порезал. Но это пройдёт.
***
Погадаем над годами
и − от быта вдалеке −
над летейскими водами
полетаем налегке.
Овладев бессмертным кодом,
окрылённая душа
пусть летательным исходом
насладится не спеша.
Погадаем над годами,
подсчитаем их запас,
как в дешёвой мелодраме,
не закатывая глаз.
Просто жизнь свою оценим,
чтобы раз и навсегда
удержать на этой сцене
мимолётные года.
Но годам, летящим мимо,
не помашем вслед крылом:
режиссёр неумолимо
предназначил их на слом.
Плеск волны, как плеск оваций,
и небес бессмертный вид −
это смены декораций
всё же не предотвратит.
Что ж, товар когда-то ходкий,
согласимся, что теперь
режиссёрские находки
перешли в разряд потерь.
И со временем в расчёте
бутафорская река…
Мы же − в творческом полёте,
вечно − в творческом полёте…
Жаль, что вечность коротка.
***
Срезает времени фреза,
как стружку, наши дни.
А мы глядим во все глаза,
куда летят они.
И ждём, когда придет с метлой
и взглянет свысока,
сметая наши дни долой,
хозяин верстака.
Страх тихо тренькает в висках,
но не о том же речь…
Когда зажата жизнь в тисках,
бока не уберечь.
А мир, который выпал нам,
как выигрыш иль дар, −
не мастерская и не храм,
скорей, большой базар,
где время − деньги, где кураж
купеческий в цене,
где не обманешь − не продашь,
а истина − в вине,
где нам отмерено сполна
надежды в решето,
и где самим нам − грош цена,
да не берёт никто…
ОСЕННИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
Снова дождь стучит по крышам,
зашифрован тайным кодом.
Мы его, конечно, слышим,
но − проблемы с переводом.
Ускользающая осень −
виртуальная реальность.
Взгляд упорно ищет просинь,
но − утрачивает дальность.
Где-то юг беспечным раем.
И прибой − на три аккорда.
Мы о юге вспоминаем,
но − уже не слишком твёрдо.
А у нас свои мотивы:
жизнь в предчувствии подвоха
и неясность перспективы,
что, пожалуй, и неплохо.
Глупо знать судьбу, и страшно,
и не слишком интересно:
что душе до яств и брашна,
если будущность известна?
Так что, горе-оптимисты,
мы живём в плену сомненья
и твердим: «Остановись ты,
быстротечное мгновенье!» −
чтобы хоть на этот вечер
от забот освободиться
и теплом желанной встречи
полноценно насладиться,
чтоб назло осенней дрёме
вдруг пахнуло вешним садом
в этом мире, в этом доме,
с этой женщиною рядом!
НАТАШЕ
Ах, витаминов надо бы.
Но где достать товар?
По фрукты да по ягоды
не ходим на базар.
Калечные, увечные,
скрипим, а не живём.
Продукцию аптечную
без радости жуём.
Но пусть пустует пашенка,
у сада дикий вид,
нас ягодка-Наташенька
излечит-исцелит.
С тобой мы снова молоды,
бодры, и ясен взгляд.
В душе рядки прополоты,
и зацветает сад.
Ах, вишенка, черешенка,
Наташенька, живи
и радуй нас, как песенка
надежды и любви!
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Наша жизнь − сплошной каток,
тонкий мартовский ледок…
И на этом тонком льду,
сколько Бог отпустит лет,
совершаем, как в бреду,
мы свой жизненный балет.
Между «можно» и «нельзя»,
огибая полыньи,
мы с тобой несём, скользя,
души зябкие свои.
Под коньком искрит снежок,
мелодичен ветра свист…
Я скажу тебе, дружок,
ты отличный фигурист.
Твой классический полёт
завораживает взгляд.
И сверкает синий лёд,
отражая твой наряд.
Наша жизнь − сплошной каток.
И конёк врезает след
в замороженный поток
пролетевших дней и лет.
Но назло шальной воде,
застывающей в момент,
мы станцуем па-де-де
и сорвем аплодисмент.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Я кажусь себе порою
булкой − мякотью наружу
и с изрядно зачерствевшей
твердой коркою внутри.
Я доступен и податлив −
до известного предела:
можешь ты меня прощупать,
но не слишком глубоко.
Что поделать, это возраст, −
у него свои законы:
рассыпаю крошки на пол
(хорошо, что не песок).
Все же я ещё съедобен −
размочить меня попробуй
и, кусая осторожно,
не сломай о корку зуб.
ПРИКАРПАТЬЕ
Склон лесистого затылка,
шлях на лбу, как шрам в пыли,
редкозубая ухмылка
скал, торчащих из земли.
Бьётся жилка водопада,
нервно скачет родничок,
и светило, как лампада,
тускло пялит свой зрачок.
Неприветливость пейзажа,
самостийного вполне,
мне напомнит о пропаже,
и надуманной вине,
и о том, что нас отныне
разделяют рубежи
из обиды и гордыни,
полуправды, полулжи.
Но пейзаж очеловечен
лишь фантазией моей.
И ему гордиться нечем,
разве тем, что он ничей.
Ни лукавства, ни коварства.
На челе − веков печать.
И названье государства
он не в силах различать.
В тучу молча запахнётся,
охраняя свой покой,
и сквозь зубы усмехнётся
над людскою суетой.
ГОД ЗМЕИ
Эпоха, ты меня не мучай,
на счастье не сгибай подковой:
обидно быть змеёй гремучей,
ну а тем более − очковой.
Учусь шипеть на всякий случай
и зубы с ядом чищу пастой.
Ну что ж, гремучей так гремучей −
но так ли важно, чтоб очкастой?
Скользя, как будто всюду наледь,
кляну змеиную безрукость.
Различье слов «жалеть» и «жалить»
мешает видеть близорукость.
Так что ж, всю жизнь без перерыва
быть гадом с гадскою повадкой,
души прекрасные порывы
душить в себе с удавьей хваткой?
Хоть бейся лбом, хоть лезь из кожи,
да хоть шипи до заиканья,
ждёт каждый день одно и то же:
юление и пресмыканье.
Мы изменить судьбу не смеем.
Но если некуда деваться,
согласен быть воздушным змеем,
да так, чтоб с ниточки сорваться!
МОСТ
Смиряя страх,
доверившись надежде,
шагнули мы на мост
в сыром тумане,
хотя другого берега не видно,
и даже непонятно, есть ли он.
Мост, точно нож,
в клубящуюся массу
тумана
входит,
но не разрезает,
а просто исчезает в ней.
И сами
мы словно растворяемся в тумане,
забыв, куда идём мы
и откуда,
и, главное, зачем.
Задать вопрос
пожалуй что и некому.
Клубится
туман
над головой и под ногами.
Лишь впереди,
в неярком ореоле,
свет фонаря,
а может быть, звезды,
которую,
других ориентиров не видя,
мы назначим путеводной.
ДИСКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ
Мы живём, увы, частично,
фрагментарно и кусочно,
расчлененно, мозаично,
до обидного непрочно.
Не вкушаем плод запретный,
тайный план Творца нарушив.
Одинокие, дискретно
существуют наши души.
Символ нашего режима,
как в питании, раздельность.
До конца недостижимы,
в равной мере, цель и цельность.
Гложет внутренняя склока:
сердце с разумом в разладе.
Зуб неймёт, но видит око
и мечтает о награде.
Что ж, мечтать совсем не вредно
о сближенье и слиянье,
продолжая жить дискретно,
как всегда − на расстоянье.
Как всегда, как все, типично,
по науке и по вере,
то есть дробно, мозаично,
далеко не в полной мере.
Но пока жива надежда,
в ней мы ищем утешенье,
как стрела, повиснув между
тетивою и мишенью…
СТРОКИ
Живём и годы не считаем,
и книжки разные читаем,
и прём по жизни напролом.
Но вдруг подходят эти сроки,
но вдруг приходят эти строки −
не по делам, так поделом.
Они пронзительны, прекрасны,
хотя уже почти напрасны,
но лучше поздно, чем нигде, −
сквозь смех прорвавшимся рыданьем,
риторикой и бормотаньем,
лучом, вернувшимся к звезде.
Они возносят, добивают,
и в аут сердце выбивают,
и нянчат бережно в горсти,
чтоб стать желанным пораженьем,
на миг застывшим отраженьем,
«прощай», звучащим как «прости».
Они с отчаяньем подруги,
они бредут в бессонном круге
и всё же держат на плаву.
И если мне опять не спится,
за них пытаюсь уцепиться,
чтоб осознать: еще живу.
Когда бы мне от грез очнуться,
до истины не дотянуться
и что-то главное забыть,
я б встал, как Гамлет, на пороге,
увидел те же две дороги
и выбрал, на которой «быть»!
Но только нас никто не спросит.
Собака лает, ветер носит,
а караван давно в пути.
Он, как дневник, пески листает,
и ветер память заметает
«прощай», звучащим как «прости».
БРЮГГЕ
Эта лепка и этот ажур,
зелень статуй и золото залов…
Витражей отражённый пожар
гаснет в сумраке сонных каналов.
Безопасный, за давностью лет
ты забыл про кровавые бучи.
Лишь готический храм, как стилет,
протыкает свинцовые тучи.
Языками владея едва,
я тебя как учебник листаю…
Город Брюгге, плети кружева
и корми лебединую стаю.
Как учил Симон Стевин, столбцом
умножай десятичные дроби
и торгуй понемногу лицом,
в рассужденье о сытой утробе.
Я тебя не прошу о любви,
как награду приму твоё братство
и усвою уроки твои,
если только смогу разобраться.
Я ещё осознал не вполне,
что досталась мне в жизни удача:
белый лебедь на серой волне,
город Брюгге − как с вечности сдача.
ЕГИПТЯНИН
Я жил на берегу большой реки
и наблюдал, как каждый день устало
катился диск из жёлтого металла
и погружался в чёрные пески.
Ночь наступала, и пчелиный рой,
искатель галактического меда,
осваивал пространство небосвода
и забавлялся звездною игрой.
Я музыку светил не различал*,
но, восхищаясь их ночным узором,
задолго до Евклида с Пифагором
предчувствовал гармонию «Начал»**.
Кем был я? Лишь рабочим муравьём,
безропотным, одним из миллиона.
Мы строили гробницу фараона −
его бессмертья нерушимый дом.
За день устав не меньше, чем Амон,
который опускался в Нил, краснея,
мечтал не о бессмертье, а о сне я,
но краток был мой беспокойный сон.
Мне снились камни − груды глыб и скал,
и пирамида как венец творенья,
и колесо, чтобы уменьшить тренье…
Но днём я об открытье забывал.
Прошли века. Теперь я − блеск зарниц,
туман над Нилом, серый прах откоса.
Во мне свой след оставили колёса
бесчисленных машин и колесниц.
Но я живу как вечный Агасфер,
смысл жизни обретя и назначенье
в осуществлённом принципе каченья
и в музыке непостижимых сфер.
__________________________________________________
* Музыка светил, музыка сфер − прекрасные звуки, которые, по мысли Пифагора (VI век до н.э.), издают в процессе вращения вокруг Земли звезды и планеты. Эта музыка звучит в ушах людей постоянным фоном, и поэтому они ее не замечают.
** «Начала» − капитальный труд, в котором Евклид (IV век до н.э.) обобщил разроз-ненные математические знания, накопленные его предшественниками, и заложил фундамент теоретической математики.
КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
В китайской поэзии − мир без движенья,
застывший классическим строем в веках,
как плазма в ловушке, как чувств отраженье,
как эхо традиции в новых строках.
Здесь дело не в слове. Поймём мы едва ли,
как птичий язык и мелодию трав,
что чертит в своём полутёмном подвале,
к листку наклонившись, седой каллиграф.
В его иероглифах музыка жеста,
изящество стиля и мудрый покой,
но страсти угасли, как память блаженства,
которое пережил кто-то другой.
А в юной, смешной и безграмотной страсти
ни строя, ни стиля, лишь свет поутру.
И гаснет давно позабытое счастье,
как всполох огня на свирепом ветру.
Но мудрый старик при любой непогоде
блюдёт корпорации гордый статут.
Он дверь закрывает и снова выводит
стихи, до которых ещё дорастут
безумцы отважные, если очнутся,
разлюбят, освоят старинный канон
и в классику стиля, как все, окунутся,
развеяв мечты ослепительный сон.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
Снова на круги своя,
как на место преступленья,
возвращаюсь жалкой тенью,
чтобы крикнуть: «Это я!»
Не узнаю старой боли,
ничего не скажут мне
запах йода, привкус соли,
клочья ваты на волне.
Пусть по щучьему веленью
боль стихает не спеша
и целительною ленью
наполняется душа.
Но в аптечном антураже
наркотического дня
с ощущеньем давней кражи
я пойму: здесь нет меня.
Социально с тучей близок,
как оптический мираж,
я собой пополнил список
незамеченных пропаж.
Пассажир любовной лодки,
расколовшейся о быт,
в черноморском околотке
я сегодня позабыт.
Видно, с дыркою в кармане
был курортный пиджачок.
И меня на общем плане
заменяет новичок.
Так что с прошлым рассчитайся:
дебет с кредитом, актив…
− Эй, фотограф, не старайся,
не таращь свой объектив!
ТВОРЧЕСТВО
Бросаю камень в воду.
Как процесс
рассматриваю действие бросанья:
замах, отрыв и собственно полёт,
сближенье с отраженьем, зависанье
короткое,
а после − всплеск, круги,
которые расходятся и гаснут,
и остается только рябь −
от ветра,
а не от камня.
Камень исчезает
в зеленой глубине
и там, вращаясь,
теряет скорость и в тягучий ил
врезается, вздымая осьминога
лиловой мути с илистого дна.
Но и она уляжется, осядет,
накрыв собою камень.
И следа
от моего броска никто не сыщет
ни в воздухе, ни в замершей воде.
Да я и сам готов уже признаться,
что мне все это просто показалось
и не было ни камня, ни замаха.
Вот только ноет правое плечо.
КОВЧЕГ
В нашем городе зима − гниль:
морок сумерек, сердец мрак.
А с востока все несёт пыль
и отбрасывает снег в брак.
В нашем городе весна − жуть.
Сводка метео всегда врёт.
И туманится вещей суть.
И под слякотью скользит лёд.
Ну а летом топит Бог печь.
Летом нас бросает в жар, зной.
Так что лучше просто в дрейф лечь,
как когда-то поступил Ной,
чтоб Ковчегом к ноябрю плыть
за редеющей листвы край
и понять: пора смирить прыть, −
вряд ли светит нам иной рай.
И хотя сырой рассвет мглист,
и дождями горизонт стёрт,
просигналит нам резной лист,
что достигнут Арарат, порт.
Из сомнений и надежд груд
в наших душах он весь год рос.
Зацепиться б, но обрыв крут
и не выдержит стальной трос.
Значит, снова нам глотать взвесь
серых сумерек − седых вех,
все же зная: Арарат здесь −
колет ребра изнутри вверх.
ОСЕННЕЕ ТРЕХСТИШИЕ
Мимолетная ласка
седой, как и я,
паутинки…
НЕВОЛЬНЫЙ СОНЕТ
Ну что же мне делать с размером стиха,
рифмованных строчек всесильным диктатом?
Свободно их сам сочиняю? Куда там!
Я даже не пахарь, скорее − соха.
Не я, это мною ведут борозду.
Но, грубо врезаясь в словесность, как в почву,
я всё же судьбе благодарен за то, что
еще впереди различаю звезду.
Быть может, она и влечёт по стерне
и − нет − не диктует, суфлирует мне,
когда я могу отклониться от роли.
И я не ропщу, не встаю на дыбы.
Я сам выбираю свободу неволи
от пахоты этой и этой судьбы.
ВЕТЕР
(Читая Амоса Оза)
о ли чувство вины, то ли совесть и впрямь нечиста, −
этот ветер юлит и, пыля, заметает следы,
и терзает листву, и играет тревогу с листа.
Он еще не беда, но рукою подать до беды.
Безотчётную ярость швыряя перчаткой в лицо,
затихает на миг, чтобы тут же сорваться на визг,
и сжимает круги, и свивает в тугое кольцо
наших жизней поводья, как кучер, напившийся вдрызг.
Он не знает пути и легко позабудет про нас.
Как и ты обо мне, пожимая беспечно плечом.
И ни страха, ни жалости, разве что слёзы из глаз, −
так и те лишь от ветра. Отчаянье тут ни при чём.
ПРОЩАНИЕ С ВЕЧНОСТЬЮ
Мёртвые славы не имут и сраму.
В райском садочке на отдыхе дачном,
вставлены в вечность, как в пыльную раму,
сами они абсолютно прозрачны.
Сами они невесомы, бесстрастны,
кротки, беспечны, легки, беззаботны
и к отшумевшим страстям непричастны,
ибо бездушны, поскольку бесплотны.
Я б отослал свою душу в конверте
к Богу, когда бы она захотела.
Но не к лицу дармовое бессмертье
ей, эманации бренного тела.
В райском ГАИ не отмечу права я.
Вечность покинув, как доску почета,
бьётся душа моя, жилка живая,
платит исправно по каждому счёту.
ЛИСТ МЁБИУСА
Лист, лента или петля Мёбиуса − топологический объект, уникальный
пример односторонней поверхности…
Душа скользит по внешней стороне
реальности. А говоря вернее,
не опуская глаз, парит над нею,
предощущая жизнь свою вовне.
И невдомёк поверхностной душе,
что, не нарушив линию разметки,
она уже давно внутри манжетки,
закрученной в нелепом вираже.
Лист Мёбиуса − вечности мираж.
Начал начала и концы с концами,
переплетаясь, повторяют сами
все тот же примелькавшийся пейзаж.
В чем разница? Там холод, здесь тепло.
Там яркий свет, здесь царство полутени.
Там знание, а здесь мое смятенье.
И там добро, а здесь − неужто, зло?
Противоречьям этим нет числа:
душа − объект двойного назначенья.
Меня уносит время по теченью.
Но я не брошу своего весла.
Пусть бесконечность сдвоенным зеро
лишает слабых признаков отваги,
гребу, бреду, взбираюсь на ребро
полоски перекрученной бумаги.
ЧАЙКА
Крылья чайки − упругий, изогнутый лук.
Тело чайки − прижатая к луку стрела,
как к губам прикипевший томительный звук,
как побег − безуспешный побег от ствола.
Лук, увлёкший стрелу в их совместный полёт,
и стрела, за собой уносящая лук…
Тетивой-невидимкою ветер поёт.
Катер пашню реки разрезает, как плуг.
Но разрезать не может. Упрямая гладь
возрождает единство зелёной слюды.
И о чём ей жалеть, и чего пожелать,
и зачем отраженья хранить и следы?
Эта вечность, изменчивость без перемен
нас проглотит: у времени свой аппетит.
Только ветер крылатый, прорвавшись сквозь тлен,
прозвенит тетивой, и стрела просвистит.
Борис Вольфсон
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке