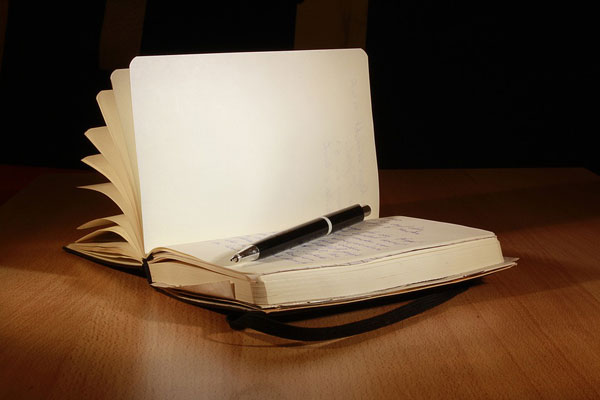
Мало того, что не пишется, так ещё и раздражение стало накапливаться где-то внутри из-за этого. Он уже четвертый день в этом пресловутом, всеми захваленном, «доме творчества», и ни странички текста – только чёртики да крестики на листочках бумаги. А ведь рассчитывал, что едет сюда работать на две недели – этого вполне достаточно, чтобы написать, давно задуманную и со всех сторон отполированную в голове, повесть о деревенском парне, неудачно женившемся на столичной штучке.
Идея и на НТВ понравилась – сразу предложили: после публикации писать сценарий для восьмисерийного телефильма. А что – такие темы сейчас востребованы, потому что смотрятся.
Вкратце: парень из глухой провинции, можно сказать из деревни, сын охотоведа, попадает служить в Семёновский полк, который занимается охраной объектов государственной важности, и служит он в Москве. Там, в столице, он знакомится и по окончании службы женится на девушке из семьи московской богемной элиты. Всё по-взрослому в ту пору: с венчанием и пышной свадьбой. Ну, или любовь случилась, или гормоны так удачно и вовремя у молодых людей выплеснулись. Папа у невесты художник, а компания у семьи этой такая, что ой-ёй-ёй: и Кобзон, и Глазунов, и Ахмадулина, и Валентин Распутин – смесь из деревенщиков и диссидентов, но они уже начали превращаться в патриотов и либералов и расползаться в разные стороны. Парня пристраивают работать заместителем командира взвода охраны Большого театра или что-то вроде этого. А невеста – девушка свободных нравов из анекдота: «У тебя сколько мужчин было?» – «Семеро». – «Так я седьмой?» – «Нет, ты – четвертый». Но, поближе к свадьбе остепенится она – надо ещё подумать об этом.
И вот у этого молодого героя, жениха, или уже и не жениха, а мужа, в далёкой деревне погибает отец – придавило в лесу деревом. Сыну сообщают об этом, и он собирается спешно ехать на похороны. А его подружка, а теперь уже молодая жена, не собирается с ним на похороны ехать, и объясняет она ему, своему законному, что они должны ехать к кому-то на дачу в Подмосковье, так как там будет очень нужная презентация, и это важнее любых похорон. И о необходимости этого загородного визита говорят все его новые родственники и пытаются объяснить ему, что на похороны отца ездить не надо. И до них не доходит – почему он их не понимает. А он не понимает их! Они говорят на разных языках.
Вот такой незамысловатый, простой сюжет.
Всё вроде разложено по полочкам. А не пишется.
Он знал – почему не пишется. Не пишется потому, что где-то во всей этой истории спряталось пусть и небольшое, но существенное враньё. Затаилась там, где-то в глубине сюжета, какая-то искусственность – её надо найти, понять и выковырнуть.
По утрам уже чувствительна прохлада сентябрьского воздуха. Он просыпается и встает в пять утра, сразу же закрывает дверь на лоджию, откуда заползает эта ночная лесная свежесть и при помощи своего допотопного электрического кипятильника готовит себе кипяток в большой кружке, чтобы потом пить крепкий, сладкий, натуральный, заранее намолотый кофе из небольшой кофейной чашечки. Так уж привык.
Как только чуть-чуть солнышко поднимется и начнет пригревать, сразу же хочется снова дышать свежестью соснового леса, близкого озера, слышать уже редкое чириканье лесных пичуг и всегда приятное слуху кукареканье петухов из соседней деревни, к которой прямо примыкает территория Дома творчества.
Он снова открывает дверь на лоджию и выходит, чтобы сидя в плетеном кресле выпить первую утреннюю чашку кофе и выкурить первую и самую сладкую за день сигарету. Он когда-то приучал себя к трубке, но так и не приучил: процесс курения трубки слишком отвлекал, точнее – сосредотачивал и замыкал его внимание на самом процессе. У него не получалось переключить свое внимание от трубки, пока её куришь, на нужные размышления, наблюдения или полностью отдаться текущей и содержательной беседе. С сигаретой всё проще – из тех двух-трёх десятков, что выкуриваются за день, только и удостаиваются особого внимания: первая, что с утренним кофе, та, что после обеда, и третья – на прогулке перед сном.
Номер у него хороший, точнее – привычный, он в нем уже жил не раз: и в позапрошлом году, и три года, и семь лет назад. И за эти годы ничего в нём не меняется. Две комнаты на втором этаже – первая большая, с диваном, кроватью, креслами и столом, становилась гостиной и спальной одновременно, а вторая – небольшая с письменным столом и выходом на лоджию – естественным рабочим кабинетом. Хорош номер ещё и тем, что от этого так называемого нового корпуса ведёт прямая аллея к главному, старинному, где находится администрация, кафе, библиотека, биллиардная и ещё какие-то службы. Он ходит туда три раза в день в столовую, но ещё в обход есть тропинка, по которой можно пройти прямо в лес, а там и на озеро, и в деревню – надо только пролезть в дырку в заборе, которую никто почему-то не заколачивает уже много лет.
Когда-то давным-давно, ещё совсем молодым человеком, делающим первые шаги в литературе, он впервые приехал в этот Дом творчества вдвоем с товарищем, таким же начинающим поэтом, в гости к своему условному, но бесконечно уважаемому учителю. Учитель был мэтром той большой, но куда-то сейчас (может — на время?) пропавшей, настоящей советской литературы, мастером стихотворной строки. Только вместо умных бесед, о которых можно было бы потом вспоминать или рассказывать, получилась полная бестолковости сплошная гулянка, которую ежедневно умело возглавлял модный и популярный в те годы поэт Анатолий Поперечный, прямо-таки заполнивший собой весь Дом творчества.
Толя Поперечный был поэтом-песенником, он был в зените своей короткой славы и просто купался в своих песенных деньгах. Он приезжал с набором персональных биллиардных киёв в деревянных футлярах, сработанных по спецзаказу, и с целой упаковкой колод игральных карт: Толя был не только биллиардистом, но и заядлым преферансистом. А умело возглавлял он местную, временно сложившуюся весёлую компанию потому, что Толя умудрялся каждый день и писать тексты, и выпивать, и играть.
У молодых так не получалось – они могли или играть, или выпивать, или бессмысленно бродить по лесу. Апофеозом всей этой полной идиотизма поездки стало почти ритуальное закапывание бутылки портвейна под старой самой толстой сосной в лесу – друзья решили выпить её через год, приехав сюда снова. Конечно, через год они не приехали и, наверное, даже не вспомнили про бутылку, а вот через тридцать лет такие сентиментальные истории почему-то вспоминаются.
Он выпил две чашки кофе и выкурил несколько сигарет, прежде чем понял, что с писанием снова ничего не получится, а рисовать треугольнички и чертиков на бумажках надоело. Хотя «писать тексты» – говорить не правильно: он, как и почти вся пишущая братия, уже привык работать на компьютере – сразу можно поправить какие-то мелочи, и видна разметка страницы. А вот план будущей работы все равно лучше на листочке набросать, на котором можно потом и почеркать. Мелькнула мысль, что, может, надо сменить привычный режим: переключиться с жаворонка на сову и начать писать по ночам, а утром спать до обеда. Решив подумать об этом всерьез и посоветоваться с товарищами по ремеслу, которые в количествах будут бестолково бродить и толкаться по территории этого заповедника творчества после завтрака. Они во время прогулок придумывают какие-то совершенно невероятные гадости друг про друга и сплетничают с таким умным видом, словно обсуждают программу партии или делят бюджет страны. Хотя в вопросах творческого застоя они, безусловно, разбираются – «муки творчества» знакомы всем им.
Вот Хемингуэй сейчас бы сел на велосипед и поехал по узкой каменистой тропе вдоль берега утреннего затихшего моря в соседний поселок, чтобы купить газеты. Потом сидел бы там в маленьком пустом кафе и пил бы местное холодное сухое вино, почитывая парижскую «Le Monde» и американскую «The Washington Post» с рецензиями на свой новый роман.
Паустовский, наверное, тоже бы не мучился, а взял бы корзинку в руки и пошел в свои тарусские березовые перелески собирать красноголовики и боровички, которым уже приспела пора.
А Пастернак – Пастернак бы, наверное, через дырку в заборе, тайком-тайком, оврагом, а там по узенькому мосточку через ручей и в поселок, к своей…
До завтрака было ещё часа два или три, и он решил погулять в эти ранние часы.
Он натянул светло-бежевые широкие дачные прогулочные штаны, красные мягкие кроссовки, которые с этими штанами никак не вязались, и накинул на себя поверх майки не по размеру большую полотняную куртку – так ему было уютно. Взял из угла легкую, ещё не отполированную временем, но уже заметно попользованную можжевеловую палочку, которую кто-то до него живший в этом номере, забыл или наоборот продуманно оставил – так охотники заботливо оставляют на заимке в таёжной глуши для заблудившегося путника соль и банку тушёнки.
Солнышко уже поднялось над дальней гребёнкой леса, но совсем не грело – ночная прохлада была чувствительна. Приятно пахло палой листвой, и запах этот напоминал о скорой настоящей осени. На заасфальтированных потрескавшихся дорожках пожухлые липовые и сочные красные кленовые листья гляделись выразительно, а вот на ухоженных зелёных газонах – нет, там они уже резали глаз яркими болезненными оспинами и портили их вид.
Вспомнил, что хотел выпить со второй чашкой кофе рюмку коньяку и не выпил. Сейчас эта рюмка коньяку внесла бы в кровь немного тепла, а так придется добирать его быстрой ходьбой. Но что-то спешить не хотелось – хотелось размеренно идти и думать о своей повести.
Но, подумалось почему-то не о повести, а о том, что заселяясь сюда, в Дом творчества, четыре дня назад, он обратил внимание, что за ним внимательно наблюдает весьма интересная дама где-нибудь уже под сорок, но без следов увядания на лице, с очень темными характерными глазами, похожими на вишни. Эти вишни ярко блестели и даже искрились. Он обратил внимание на её взгляд и не сразу узнал её, эту даму. А вот сейчас – вспомнил. Конечно – это была она.
Лет десять назад, а может, чуть больше, они оказались в одной делегации на большой книжной выставке во Франкфурте на Майне. Мероприятие длилось недолго – всего три дня, но все эти три дня они кокетничали, любезничали и заигрывали друг с другом, поощряя устные вольности, граничащие со скабрёзностями, пока, уже расставаясь в аэропорту, она не сказала, что жалеет кое о чем. С ехидцей и иронией она это произнесла.
– Инициатива всегда должна исходить от женщины. Я имею в виду некую подсказку, толчок. И я жалею уже сейчас, что не проявила достаточно её, своей инициативы, хотя и было всего три дня. Правда, кто его знает: быть может, мы ещё встретимся и сумеем поиграть!
Да-да, это была она. Потому она и посмотрела на него с таким любопытством или интересом. Только как её зовут? И кто она? Ну, конечно же, зовут её Ольгой – это он вспомнил. А вот кто она: журналистка, поэтесса какая-нибудь, чья-то жена? А важно ли это сейчас? Важнее понять – почему за три проведённых здесь дня он её больше ни разу не встретил? Здесь, в этом пансионате для творческих людей, всё так компактно расположено, что не сталкиваться, не встречаться друг с другом просто невозможно. Она уехала? Или заболела? Или избегает его?
Случайности случаются редко, а если они все же происходят, то чаще всего, это – не случайности. Навстречу ему по аллее шла Ольга. Увидев его, она остановилась напротив и широко улыбнулась
– Иван Иванович, вы меня искали, или это чудо? Не верю в случайности.
– Я тоже не верю и, конечно, я думал сейчас о вас, – от неожиданности он натянуто улыбнулся, подавляя удивление.
– Так в чем же дело? Вот она я. Будет продолжение?
– Конечно. У нас с вами сегодня просто четвертый день знакомства, и продолжается наша весёлая игра. Пойдемте ко мне, Оля. У меня в номере есть бутылка «Хеннеси», и коньяк чуть-чуть согреет это холодное утро.
В номере, действительно, было значительно теплее – видимо, от того, что солнышко нагревало темные шторы. И запах кофе, хорошего ароматного, который он снова умудрился приготовить всё в той же керамической кружке при помощи кипятильника, наполняя комнату, волновал.
Она уверенно, но и выжидательно забралась с ногами на диван.
Он немного суетился, разливая коньяк и кофе.
Всё у них получилось отлично, уверенно, как и должно получаться у взрослых самостоятельных людей, знакомых десять лет, а может, и больше. Ведь они познакомились очень давно, и знакомились они, если честно, на предмет разрешения этой темы. Дистанция иногда очень нужна, дистанция часто готовит правильные решения.
Потом курили, болтали.
Она уходила, поцеловав его куда-то в ухо или в щеку, улыбнувшись довольно и бросив:
– До вечера!
– Да-да, конечно, до вечера, – проговорил он с совершенно учтивой улыбкой, но как-то отстраненно. Мысли его уже переключились. Хорошо, что она не заметила.
К этому моменту он уже знал – почему не пишется, где та червоточина, которую надо выбросить. А точнее — ничего не надо выбрасывать – просто для правильного решения надо заглянуть туда, откуда проблема выросла. Для развития нужна дистанция. Надо захватить время, и всё получится. Потом лишнее можно сократить.
На обед он не пошел. Новый текст захватил его…
Труба
(повесть)
Страшное, кошмарное выдалось лето 72-го в средней полосе. Сто с лишним дней, и ни капли дождя, а кое-где и дольше. Горели леса и торфяники, деревни и города. От дыма было не продохнуть, люди ходили в масках. Птицы на лету вспыхивали и падали горящими шарами на землю. Маленькие речки пересохли, а в крупных вода так нагрелась, что рыбы сварились и плыли, варёные, вниз по течению, белея своими мёртвыми брюхами. Звери посходили с ума и бегали обгорелые по центральным улицам городов: и медведи, и кабаны, и рыси. Дым стоял такой, что самолёты перестали летать, для поездов новые маршруты выдумали. В лакуны выгоревших торфяников проваливались и автомобили и трактора. Да что там: дома и целые деревни проваливались. Ухнет гулко, и нет ни трактора, ни дома, только сноп искр, и поминай как звали.
Шатура, Балахна, Керженец стали столицами мировых событий в то лето, а не Рим, Париж и Лондон. Каждый житель страны знал в те дни, где находятся эти русские поселения и как там идут дела.
А когда пошли дожди, не помогли они – только дыма поменьше стало. А когда выпал снег, только страшнее стали смотреться эти сотни тысяч выгоревших гектаров когда-то красивого русского леса, мёртво стоящего вдоль наезженных трасс.
А снег всё валил и валил, а из-под него – дым горящих торфяников всё полз и полз.
Следующий год стал годом борьбы с погорельниками: и Политбюро собиралось, и умные люди, академики советовались, и народ как-то сам по себе так же решил.
По весне пожарники бросились заливать недогоревшие торфяники, а страна… Сотни тысяч солдат, студентов, инженеров и служащих, разбитые на бригады отправлялись на уже подготовленные фронты работ: выпиливать, выкорчёвывать, расчищать остатки погибшего товарного леса, и засаживать его миллионами новых посадок елочек и сосёнок.
Удачный повод выдался и для орготделов партийных структур различных уровней – поменять нерадивых и засидевшихся руководителей, ликвидировать ненужные подразделения, создать новые леспромхозы, построить новые дороги, новые узкоколейки, новые зоны отдыха, новые заповедники да заказники…
Он увидел Ольгу только через два дня.
Она садилась в такси. Точнее, водитель такси в форменной фуражке очень старательно и обстоятельно укладывал её чемоданы в багажник машины. Оля стояла чуть в стороне с какой-то дамой, и он даже засомневался – стоит ли подходить, чтобы попрощаться. Но Оля сама, заметив его, спешно бросила свою даму, чмокнув её, и обратилась к нему:
– Где же вы были два дня? Даже в столовой вас не было. Я уже начала волноваться и подумывала – не зайти ли к вам. Но в столе справок мне сказали, что вы работаете и просили вас по пустякам не беспокоить.
– Да-да, Оля. У меня хорошо работается. Поразительно, Оля – как-то сразу всё с места сдвинулось. Пишется, Оля. И всё благодаря вам.
20.8.18. Асташиха
Олег Рябов
 «Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке
«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке


